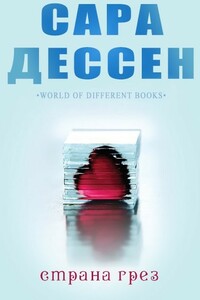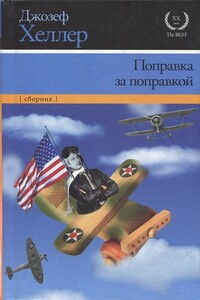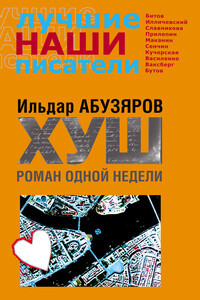Эшлиман во временах и весях | страница 25
На подоконнике утвердился, взглянул мельком на пустой двор, испещренный прочернями, и в сторону себя кинул, уцепился за лестничную перекладину, только руки обожгло. Торопился, сколько мог, перебирая железо, помнил, что внизу доски начнутся, там — на руках, потом прыгать и рвать во всю силу.
До последней перекладины добрался, повис и, оттолкнувшись, в снег полетел. Ощупал — цел, вроде.
И тут она рядом рухнула. Обнял ее, поднять хотел, но только голова в сторону откинулась, распались волосы, и кровь в приоткрытом рту зачернела.
Сидел с ней в руках, укачивал, выл, не заметил, как брать подошли.
“Я все сохранила, что ты мне подарил…”
Охота на человека
Все вернулось на круг,
И Распятый над кругом висел.
В. С. Высоцкий
Лунной ночью, стоя в люльке канатной дороги над памирской рекой Вахш — в переводе Бешеная, — ошеломленные стенанием и храпом воды, проламывающей путь в скалах, ворочащей валуны и дробящей камни в лунную пыль, вы заметите вспышки серебряных нитей, пронизывающих ущелье, — ток воды через воду, движение струй, слитых в единый стон, единую страсть клокочущего потока.
Так собирает в единый поток многозвучное песенное творчество Владимира Высоцкого стремление к духовному освобождению человека. Проявившееся еще в раннем «блатном» цикле как стихийная жажда воли заточенных персонажей, это стремление обрело трагическую глубину в песнях, отвергающих земную реальность, полных тоски и томления живой души, заключенной в мертвом предметном мире.
Идея свободного утверждения личности проявлена в песнях, посвященных противоборству человека его рабской судьбе, социально обусловленной тоталитарным насилием. Эта драматическая тема, требовавшая от человека воплощения в поступке, решалась поэтом в многочисленных военных песнях — «песнях-ассоциациях», на чем настаивал Высоцкий, песнях-метафорах, выражающих экстремальными поэтическими средствами социальную трагедию народа.
К непосредственному воплощению противостояния власти и общества Высоцкий обратился в 1966 году, помеченном процессом Даниэля и Синявского, переложив на современный лад пушкинскую «Песнь о вещем Олеге».
Пушкин, сам в некоторой степени кудесник и любимец богов, обращается к летописному источнику с патриархальной просветленностью, возвращающей нас к его известному восклицанию: «Что за прелесть эти сказки!». Вот как комментирует он легенду о князе Олеге в письме к А. Бестужеву от 1825 года: «Товарищеская любовь старого князя к своему коню и заботливость к его судьбе есть черта трогательного простодушия — да и происшествие само по себе в своей простоте имеет много поэтического».