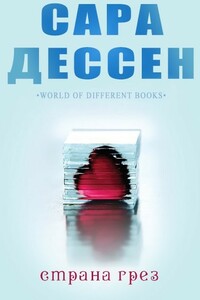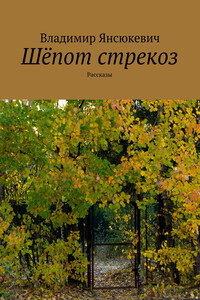Эшлиман во временах и весях | страница 23
— День, день? — она спросила.
Он взглянул в окно. По ту сторону день стоял без имени.
Когда она неприметно ушла, догнал, едва удержав за скользкие плечи.
— Дичары блазнят. Скучают за мной… тута… Дичары, — и кулачком постучала по груди.
— В дом идем, — сказал. — Идем, ва-ва кава, никуда нам теперь не деться друг от друга.
Он растопил печь, поставил варить овсянку и достал из рюкзака банку тушенки. Проделав все это, остановился, с удивлением наблюдая за собой. Банка отливала смазкой, пачкала руки. “Собаки бы обрадовались, — подумал. — Хорошая тушенка, с военного склада, не врала торгашка. Все грабят как могут, только я на подачки живу. Дурочку свою кормлю за счет голодных солдат, и сам ем, не поперхнусь. Устроено так, и не мне менять, спасибо, недолго осталось”.
Дурочка ела поспешно, склонившись к миске и помогая себе рукой, словно боялась, что отберут. Он отвернулся. Покрытая серебристой влагой, тихая трава за окном ловила переливы неба.
И снова проступали в окнах дни без имени, а он, погребенный ими художник, свидетельствовал невозможность жизни, достигшей того, что всегда оставалось неназванным, из чего нет выхода, — и обманывал смерть, теряясь в бессловесной дурочке.
— Люблю, — впервые произнесла она свое “лю” полностью и прислушалась.
А потом повторяла, повторяла упоенно, перекладывая голову от плеча к плечу. Он заметил, как она любуется своим словом, как осмысленной радостью оживает ее улыбка, и глаз не мог отвести от того девичьего, что проступало в ее лице, от движений ожившего рта и поворота настороженной шеи. На его глазах менялось ее существо, исчезало то главное и единственное, что так жадно влекло его к ней. Он, великий мастер, безошибочно чувствовавший натуру, понял, что никогда к его дурочке не вернется то, что столь непоправимо соединило их.
Он ушел на чердак, рухнул там, закопался в тряпье.
— Ва-ва кава, — произнес он, очнувшись от поцелуя.
Но, втянув ее запах, не испытал приступа страсти, не схватил в объятия, не подмял, как во все эти безымянные дни. Когда отголосок ее ног истаял в шелесте леса, он почувствовал боль и ударил себя в то место под сердцем, где комом застряла пустота.
Агония его окончилась. Он знал, что должен успеть, и двинулся отыскивать в лесу поляну, на которой преткнулся. Там опустился в сырой мох, замер с широко раскрытыми, невидящими глазами. Поляна умирала в сумерках, поглощая, затаскивая в беспредельно черное, смывая его с земли вослед отгоревшему на ней лиловому восторгу. Последним он услышал слабые звуки — скулеж ли, повизгивание — будто рядом теплилась чужая жизнь. Он потянулся к ней, но что-то оборвалось внутри, и он повалился на бок, зависнув и покачиваясь на кусте.