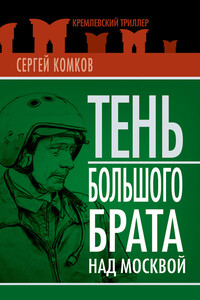Мир, который построил Хантингтон и в котором живём все мы. Парадоксы консервативного поворота в России | страница 15
Именно такого рода «чрезвычайную ситуацию» морального характера, согласно Ханне Арендт, создал нацистский режим>[9]. В гитлеровской Германии абсолютное большинство капитулирует перед новой моралью и, таким образом, становится её носителем. Итогом является полное крушение рефлексируемых границ моральной автономии и внешних обстоятельств, а затем и «моральная неразбериха», последовавшая за падением нацизма, в которой иллюзорная коллективная ответственность подменяла ретроспективную оценку индивидов в отношении собственных поступков. Эти «смены морали» каждый раз стремились воссоздать моральный комфорт и освобождали от мучительного неудобства больной совести, установления «мира с собой».
Однако в современном понимании «моральной катастрофы», речь идёт совсем не о чрезвычайной ситуации тоталитарного типа. Напротив, катастрофичность становится новым качеством реальности, в котором необходимо установить принципы «правильной жизни» меньшинства, сохранившего в ситуации нравственного падения способность к саморефлексии. Можно сказать, что это своего рода сосуществование двух моральных реальностей, в которой лишь одна является катастрофической. Рефлексивный диалог с совестью ведётся не только на уровне автономной личности, но и внутри сообщества, переживающего времена катастрофы. Эта, своего рода, «институционализация» моральной катастрофы оказывает влияние и на характер рефлексии: размышление над моральностью поступка также ограничено в сообществе, автономия которого гарантирована наличием бушующей за его пределами «моральной катастрофы».
Предположение «максимы» выбора (отсутствующего вне «практического разума» личности всеобщего закона) является не началом такого размышления, но его конечным пунктом. Так как окружающее общество «моральной катастрофы» признаётся не просто в качестве внешних обстоятельств, но обстоятельств уродливых, «ненормальных», то максимой поступка становится предположение некого «этического консенсуса», вполне реально существующей модели всеобщей добродетели, которая находится где-то за пределами данного – например, в другой стране или в другом времени.
В России, где ориентиры поведения в условиях сегодняшней «моральной катастрофы» часто принято соотносить с традицией советского инакомыслия, таким «этически нормальным» обществом представляется условный Запад, где порядочные люди не противопоставлены обстоятельствам, но живут с ними в счастливом согласии.