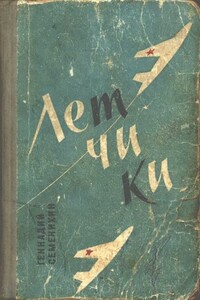Мне снятся небесные олени | страница 8
Она снова делает шумный глоток, а потом, повернувшись к Амарче, говорит с укором:
— Опять у Воло слезы выжимали!.. Зачем дразните, он же маленький.
— Какой же он маленький? — Амарча цепляется за последнее слово, стараясь увести разговор в сторону. — Он выше меня.
— Ты на целое Солнце старше его, — сердится бабушка. — Тебе же только трех месяцев не хватило до семи лет. Сейчас был бы ты в интернате… А Костака, дружок твой, совсем глупый. Зачем младшего обижать? Мало, что ли, отец его ремнем порет?.. Забыл, как сидеть не мог…
Что верно, то верно. Крутоват их отец, дядюшка Мирон. Застал он однажды Костаку за куревом, отстегал беднягу ремнем, да так, что зад у него вздуло, — ни сесть, ни лечь. Учительница Тамара Дмитриевна при всем народе его обругала. Дядюшке Мирону потом стыдно было: нервы, говорит, после фронта никудышными стали. А что такого Костака сделал, чтоб так лупить? Подумаешь — курево! Наши-то эвенкийские ребята почти все курят…
Да, странные люди эти русские! Не поймешь их. Вон возьми Митьку Тирикова и его отца Егора, сторожа пороховушки. Тоже ведь русские, а Митька почище эвенков курит да и хулиганит вдобавок, а отец помалкивает.
Веселым человеком был Егор Тириков, не унывал никогда. Какими-то неведомыми судьбами оказался он у нас на фактории, а какими — он не рассказывал. Лишь когда разговор заходил о женах, кричал громко:
— А моя курва вильнула было хвостом, мы с Митькой и бросили ее в городе, на Лене-реке, а сами сюда подались… Глядишь, какую-нибудь тунгуску присмотрим, верно, сынок?
Егора Тирикова эвенки жалели. Неустроенный, мол, человек. Жизнь его обделила.
Пороховушка его стояла рядом с Госторгом, в лесу, чуть в стороне от фактории. От избушки, что одновременно была и сторожкой, и домом, к Гаинне — Лебединому озеру, к видневшимся вдали хребтам, вела оленья тропинка, служившая Егору охотничьим путиком. На Лебедином озере Егор рыбачил, а по его берегам и распадкам ставил ловушки на горностаев.
Одет Егор был беднее бедного. В самые трескучие морозы ходил по лесу в старенькой, местами прожженной у таежных костров фуфайке, матерчатой шапчонке, сильно потрепанной и потертой; на ногах чарки. И ничего. Не унывал, как уже говорилось. На жизнь не жаловался. Покрякивал да посмеивался в закуржавевшую бородку:
— Морозец-то, паря, того… кусается!..
Вот за это неумение приспособиться к суровой таежной жизни и жалели его эвенки.
— Бедный, бедный Егор, — вздыхала какая-нибудь старушка. — Неужто не знает — в меховой-то одежке теплей. Темный он человек, не по-нашему воспитан… А так-то ничего, мужик хороший, простой, совсем как эвенк.