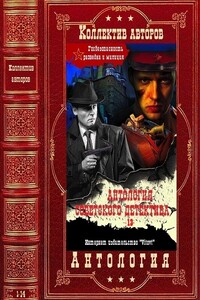Что за стенами? | страница 8
А прямо пойдешь — в павильон придешь, в пустынный, прохладный, как покинутый храм. Даже с хорами, откуда остекленело таращатся прожектора, до поры затаившие свой огонь. Католический храм, полоненный бесами.
Он пошел прямо. Захотелось побыть одному, даже, может быть, вслух поговорить с самим собой. В пустом зале всегда тянет заговорить. Громко и значительно. Про главное. Самому себе сказать речь. Одну из тех, что слагаются по ночам и никогда не произносятся вслух. А как бы хорошо произнести такую речь вслух. Хоть в пустом зале. Говорить и слышать свой голос. Прозвучавшее слово куда больше значит, чем сказанное внутри тебя. Звук выверяет правду этого слова, правду и смелость всей твоей мысли.
«Пойду и выкрикну сейчас все про себя. — Леонид усмехнулся. — Буду кричать и слушать, что посоветует мне этот крик. Войду и громко спрошу себя: дорогой товарищ, что собираешься ты делать в ближайший год, два, три? И вообще, кто ты и на кой черт родился, дорогой товарищ!»
В громадных воротах в павильон была маленькая дверца, и Леонид отворил ее, нетерпеливо запнувшись о порог. Так идет к трибуне оратор, спеша выкрикнуть в зал какие-то самые сокровенные слова, идет, запинаясь, перегорая от волнения, с каждым шагом теряя мужество и самые эти сокровенные слова.
Но в павильоне, увы, горел свет. В дальнем углу, где стоял рояль, виднелись люди. Обвинительная речь откладывалась…
Леонид двинулся на свет и на звук: какая-то женщина пела под рояль слабеньким, перепуганным голосом. Слова были неважны в этой песне, важен был молящий звук в голосе, он был понятнее слов. Он пел, замирая от страха, всякий миг готовый заплакать: «Возьмите меня, я талантливая, я миленькая, правда ведь миленькая, возьмите меня…» Вот что пел этот молящий звук, о чем твердил под бойко-рассыпчатый аккомпанемент.
— Возьмите ее, она талантливая, — еще издали, еще не видя, о ком идет речь, весело сказал Леонид.
— А что? А ведь верно? Гляньте-ка, разве это не Зульфия?
У рояля, оказывается, пребывал сам художественный руководитель студии. Он и его жена — аккомпаниатор и еще тоненькая, с прижатыми к груди руками девушка, застывшая в таком сейчас страхе, что на нее смотреть было больно. Да и незачем. Отойдет, и совсем иное станет у нее лицо, даже иной станет фигура.
— Зульфия? — переспросил Леонид, удивленно глянув на худрука. — Итак, Александр Иванович, вы решились?
— Решился, мой дорогой, решился. Новый директор, знаете ли, обаял меня и улестил за какие-нибудь десять минут. Вам же ведомо, как я слабохарактерен…