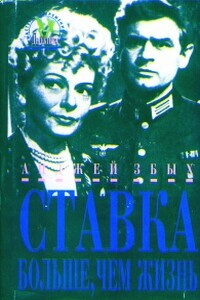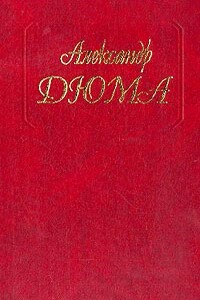Лесное море | страница 160
— Да, он боролся и погиб, как настоящий поляк: за нашу и вашу свободу!
— Да верно ли это?
— А как же! Я сам слышал от Средницкого.
— Ну, если от Средницкого… Кстати, как его дела?
— Должно быть, хороши. Выглядит франтом, а на какие средства живет — бог его знает. Вертится, говорят, около японцев. Ручаться за его «нейтральность» я бы не стал. На всякий случай будь с ним осторожен.
— Неужели уж до того дошло?
— Да. Мне Тао говорила…
Они опять зашептались, потом отодвинулись друг от друга, так как в зале погас свет и началась «Любовь самурая».
«Так вот оно что!» — подумал удивленный Виктор.
Значит, товарищи втихомолку о нем говорят, гордятся им. Они довольны тем, что хоть сами и не сражались под Шуаньбао, но он их там представлял, и это их некоторым образом оправдывает. Да, да, все-таки один из выпускников гимназии имени Генрика Сенкевича отдал жизнь за свободу Китая: он, Виктор Доманевский!
Он невольно задрожал, потрясенный тем, что его соотечественники как бы требовали от него геройской смерти в рядах китайских партизан. Это естественно, даже необходимо — и, видно, из всей польской молодежи в Маньчжурии он, Виктор, наиболее подходит для роли самоотверженного борца.
Что ж, собственно, лучше не опровергать этой легенды. Он уедет, никем не узнанный, и если даже погибнет где-нибудь в Африке (поляки, кажется, сражаются сейчас под Тобруком) — тем лучше. Если же завтра Петр Фомич не гарантирует ему скорого отъезда, то медлить незачем, надо и в самом деле идти к этому Среброголовому. Ашихэ его отведет.
Виктор не досадовал на товарищей за то, что они из эгоистических побуждений поспешили его убить и похоронить. Похоронили со славой, с благодарностью и утешительной мыслью, что и одного героя, пожалуй, хватит, — теперь Манек может спокойно оставаться бухгалтером, Рысек — кладовщиком, Киргелло стать врачом, а маленькая Довмунт — агрономом…
Он видел головы своих товарищей на светлом фоне экрана: у Манека круглая, у Рысека удлиненная — наверно, ее при рожденье щипцами повредили, так он сам по крайней мере утверждал.
«Я не спешил в эту юдоль слез, — говаривал он, — пришлось меня сюда щипцами тащить, и оттого у меня бывают мигрени и хандра…»
Виктор смотрел на своих школьных товарищей равнодушно. Он был теперь далек от них, так далек, что сойтись снова немыслимо.
Он ушел из кино, не досмотрев фильм, и, бродя по Харбину, городу, где он родился, думал о Варшаве, за которую хочет драться. А в Варшаве он, быть может, будет тосковать по Харбину!