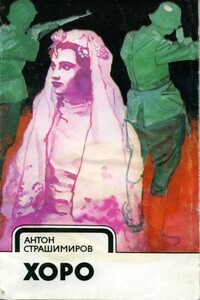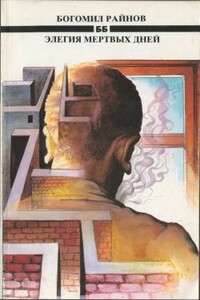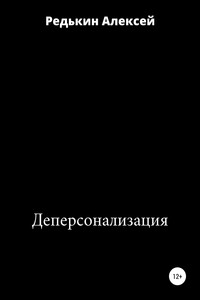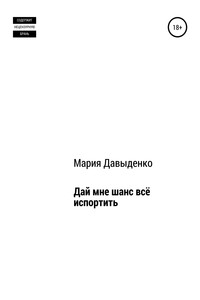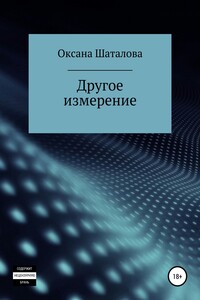Одежда — церемониальная | страница 79
Иначе было с Андричем. В одиночестве он нашел огромный, многопластовый и многолюдный мир, превратил его в художественные образы, расчленил плоды своего творческого видения во многих эпохах и характеристиках, и все это было объединено и подчинено одной личности.
Он не был не критичен, а просто спокойно мудр. Укоры истории у него превращались в тонкую мысль, анализ явлений не становился манифестом или лозунгом, а вбирал в себе множество наблюдений. Можно было подумать, будто своим творчеством он стремится проиллюстрировать мысль Маркса множества определений и, следовательно, единство многообразия. Может быть, прав критик, о котором я уже упоминал; он утверждает, что художественная истина у Андрича шире истины научной, исторической и критической, и что такое понимание искусства придает его творчеству ту полноту, какой мы не найдем ни у одного другого сербского писателя.
Жаль, что критики так любят исходить из некой надуманной предпосылки, чтобы потом опровергнуть ее при помощи весьма банальных истин. Неверно, будто все герои Андрича — одиночки, это утверждение — просто намек на одинокий и замкнутый образ жизни самого писателя. Я знаю нескольких людей, действительно одиночек: они вечно берут слово на собраниях писателей, домой возвращаются заполночь после того, как часы напролет судили и рядили в клубе, кто писатель, а кто нет, по вечерам они ездят в гости к кому-то на дачу, имеют знакомых во всех слоях общества, поддерживают с ними связи, звонят по телефону, встречаются с ними…
Ни Андрича, ни Минкова одиночками я назвать не могу. Оба жили в мире больших наблюдений, идей, стремлений к историческим обобщениям. Оба много увидели и узнали в жизни, и если в быту были необщительны, то это вовсе не значит, что они жили в изоляции от людей, от их страданий и надежд.
После войны я несколько раз побывал у Андрича. Он постоянно и много работал, а уважение, которое я питал к его книгам, не позволяло мне посягать на его время и прилагать особые усилия для создания возможной дружбы.
Он встречал меня приветливо, как друга Светослава Минкова, радовался, услышав, что у нас выходят хорошие книги, никогда не сказал худого слова о своих коллегах, осторожно и деликатно поправлял меня, когда я пытался убедить его в том, какими должны быть жизнь и литература, больше налегая на горячность чувства, чем на доводы разума.
Иногда он интересовался, как я отношусь к профессии дипломата, потому что для него самого она послужила большой жизненной школой, дала ему исторический опыт, показала столкновение характеров, воль и интересов. Я знаю, что он читал много книг, написанных дипломатами, от Палеолога до Камбона, множество мемуаров политиков и историков. Атмосфера его дома была слишком спокойной и углубленной для эпохи, в которую мы жили. Одна за другой выходили его книги «Мост на Дрине», «Травницкая хроника», «Барышня»… Он писал страницу за страницей, день за днем, и удивительно было то, что из-под его пера выходила не «продукция», а зрелая, обдуманная, спокойная проза, сотканная из исторической проникновенности, психологического анализа, теплого внимания к человеческой участи, которая ждет рождения радости.