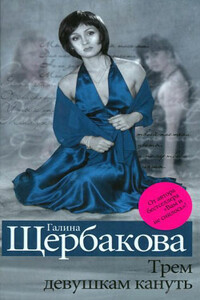Огненный кров | страница 63
Скрипнула дверь, и на крыльцо на инвалидной коляске выехал мужчина. Он не видел его лица, он смотрел на много раз перепутанное проволокой и веревкой сооружение, на одно колесо от детской коляски и другое, видимо, от велосипеда, тоже детского. Оба колеса стояли уже ободьями. Сколько же им лет?
…Он написал ей перед освобождением в семьдесят пятом. До того он уже списался с Мироном, и тот безоговорочно потребовал его приезда к нему «в людскую жизнь». Он ответил, что должен заехать к сестре. Приезжай с сестрой, ответил Мирон, семья — это главное, если хочешь жить по-человечески.
Дом тогда был на замке. Соседи сказали, что Ольга уехала забирать из госпиталя сына-инвалида. Он ждал три дня, спал в сараюшке. Кто-то это приметил (хотя он особо и не таился). Пришла милиция и связала ему руки. Ничему не поверила, ни на какие уступки не пошла. И не выпустила. Дали ему с детства знакомый срок — за бродяжничество. Легкий срок. Но увезли далеко на север.
Он тогда задумался об этом слове — бродяжничество. Что оно значит? Ну, ясно — от слова «бродить». А оно от чего? От слова «брод». Это же просто место, чтобы перейти с одного берега на другой. Он ведь так всегда и хотел. Перейти от худшего к лучшему. Но его не спрашивали, чего он хотел. Раз, мол, идешь сам, куда хочешь, уже дурак и виноватый. Не имеешь ты на это права. Ему сказали это еще в отроках. Не понял, не осознал. Виноват. Нету тебе броду и не будет.
Он понимал: не может он это рассказывать. И не потому, что стесняется «бить на жалость». Это как снова прожить невероятную, дикую жизнь после семьдесят пятого. Все говорят — война, война… А ведь, если подумать, она была лучшим в его жизни. Он тогда еще верил, что Родина пишется с большой буквы. Что побьют немцев — и станет хорошо, как при маме. И он тогда казнил того, кто сжег его семью. Ведь, если разобраться, это второй осмысленный и правильный поступок в его жизни. Спасение Олечки и та отрезанная голова. Но если вдуматься, для какой жизни он спас тогда сестру? Вот для этой нищей старости, для того, чтобы она увидела безногого сына?
Тогда, дожидаясь в сараюхе сестру, он узнал от соседей, что мужа Олечки судили за то, что уже после войны он вынес канистру бензина с колхозного склада для своего мотоцикла. Воровали тогда — господи, прости — все и всё, иначе было не прожить, но делали это тайком. Он же нес канистру с глупой мордой, а когда его остановил, кажется, секретарь сельсовета, ответил: «Колхозное — мое или не мое? Я тут вкалываю или как? Ну, скажи, сколько с меня причитается, если это твое, а не мое». Причиталось ему десять лет именно за дерзкие слова, которые он упорно повторял и расцвечивал матом. Так где-то и канул. Живой, неживой… «Языкатый был, — объяснили Никифору соседи. — Говорил, будто ему не страшно. Кто ж это позволит человеку не бояться?»