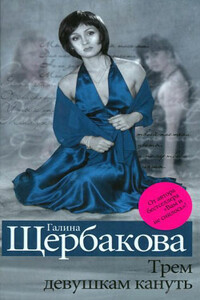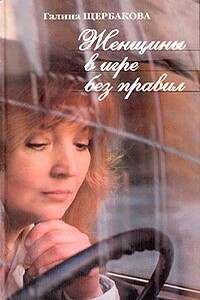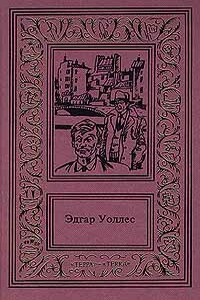Огненный кров | страница 50
После врача ей на работе посоветовали принять рюмку водки — как лучшее средство от язвы. Уже прошел тот, перенесенный во времени конкурс красоты. Многие говорили, что «то несчастье» поспособствовало выявлению более красивой и умной девушки, но не дочери Скворцова. Его же дело тянулось ни шатко, ни валко. Пользуясь удостоверением, она навещала его как бы для сбора материала. Между ними велись странные, но, в сущности, никакие разговоры. Он очень исхудал. И разрывал ей этим сердце. Она ловила себя на остром чувстве. Таким желанным он был в своей беде и в своей изможденности.
А вот хорошо обедающий муж вызывал невероятное раздражение, и это было несправедливо, ибо он ни в чем виноват не был.
Она пыталась проанализировать это нелепое чувство, которое пришло — не звали. Всего ничего — профиль потрясенного увиденным человека, с которым она встретилась глазами, когда он повернулся на ее разглядывание. В глазах его не было никакого ответного интереса, а только боль и страдание. И на тюремных свиданиях он смотрел на нее с сочувствием, даже с пониманием ее проблемы «написать о терроризме». Ничего другого он в ней не видел. Почему-то было обидно.
Дома она внимательно разглядывала себя в зеркале. У нее никогда не было комплекса неполноценности. Она смолоду была довольна своей внешностью, но и не переоценивала ее. Ну, типа «я не красива, но чертовски мила». С возрастом милота, хочешь не хочешь, истаивала, ей на смену приходило что-то иное, уже взрослая, не девичья выразительность глаз, а две морщинки, идущие от носа к углам рта, метко названные «собачьей старостью», тоже не портили образ, а наоборот, «несли в себе содержательность лица», как сказала бы ее бабушка. Это некрасивое, даже нелепое слово «содержательность» в лексике бабушки занимало одно из первых мест. Если бы она увидела ту красотку в розовой тапке, висящей на большом пальце ноги, наверняка с ногтем того же цвета, она бы всплеснула руками и сказала: «Такое не комильфо, Таня, что уже пристало тушить свет».
Вместе с образом бабушки пришли мысли о клане Луганских, когда-то развалившемся на два. Но когда это было, господи? Скоро сто лет тому, как одни уехали, а другие остались. Как пишут в умных книгах, Европа душой приняла уехавших русских, в их православную сущность она добавила толику римского права, реализма и трудолюбия протестантизма. Но ей-то зачем знать, кто из них кто? Может, те, что жгли дома в коллективизацию, сегодня уже академики и честные плотники. И это не имело отношения к Скворцову. И все же надо еще поспрошать бабушку, а то, может, и съездить в Луганск, посмотреть архивы… Кстати, там музей Даля. Если все будет мимо, написать о музее. Это не гламурно, но определенно познавательно — рассказать людям о датчанине-полунемце-полуфранцузе, ощутившем русский язык на запах, цвет и вкус. А то у нас один известный Даль — Олег, прекрасный актер, так пусть узнают и другого — луганского казака, плохого сказочника и самого великого знатока родной речи. Она напишет очерк «Дали мои, Дали».