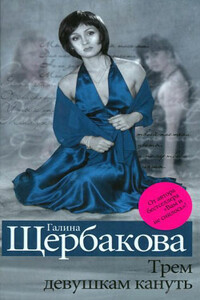Огненный кров | страница 47
Мысль о Копейске всегда была больной. Из-за ребенка. У него ведь мог быть ребенок. У него мог быть сын… Сейчас это кажется ему почти нереальным. Он несет его на руках, голодный, как одичавшая собака. Второй голодомор его жизни. Город — не город, так себе, подросток Копейск. Кружится голова. Все смутно. Как бы без начала, а сразу конец.
Он несет на руках ребенка, рядом идет женщина. Она идет медленно, и он помнит, что они идут из роддома. Шла бы она быстрее, все могло быть иначе… Но у нее нет сил… Она откатчица на шахте, у нее все надорвано, а тут еще беременность. Она не хотела ребенка, она хотела, чтобы он увез ее куда-нибудь. Она не любит этот край, она в нем плохо дышит. Она с Кубани, казачка. Ее сослали за как бы пособничество немцам. Ей при немцах было четырнадцать.
Он хочет вспомнить: как же ее звали? Странное дело, имя колышется в памяти, как дитя на качельке, вверх — вниз, вверх — вниз. Не поймать. Разве не ее имя он тогда выкрикнул, когда огромный «студебеккер», из оставшихся от войны, вынырнул задом из какого-то двора и ударил их сзади — женщину, его и ребенка семи дней от роду? Он выронил его. А «студебеккер» не сразу дал тормоз.
Он остался с синяком один. Его увели какие-то люди, спрашивали, кто он, откуда, но он забыл слова. Сейчас он думал странную мысль. Не было ли то, что он забыл имя женщины, которая родила ему сына, а он его не удержал, а потом вообще забыл, не было ли все это неслучайно? Кто-то стирал его память об одном, но обострял о другом, гораздо более раннем? Например, о матери, которая носит на руках маленького, а отец смотрит на нее с такой любовью, что ему, мальчишке, хочется плакать. Почему та картина — это безусловное счастье, а путь по пыльной улице в Копейске — образ ада, от которого остались в памяти только визг тормозов и мысль об усталости той женщины.
А потом снова тюрьма, за побитого шофера со «студебеккера». Тот шел к нему навстречу пьяный, с распростертыми объятиями: «Ну, паря, я не хотел». Он оттолкнул его от себя не чтобы наказать, он был пуст и мало что понимал, но шофер упал, раскачиваясь в падении, и ударился виском о камень, торчавший из земли. Он тогда вытащил камень из-под головы, таким его и увидели люди. Нет, они не осуждали, они его понимали и сочувствовали. Этим и сгубили, рассказывая все в милиции. «А этот стоит с кровавым камнем. Так можно же понять!»
Судьи поняли и услали в таежные лагеря на лесоповал. Однажды во сне он еще раз увидел комочек, завернутый в выцветшее казенное одеяло, которое получил в роддоме. Ребенок смотрел на него влажными, непонятного цвета глазами, и была в них, как ни странно, мысль, которой не могло быть по определению. Мысль — печаль. Будто дитя уже знало, что семь дней жизни — его срок, и другого не будет. Он ребенку что-то одобряющее гукнул, как и полагается гукать, обращаясь к маленькому, но тот повернул головенку, искривив рот.