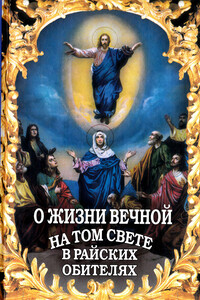Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга первая: Критический обзор важнейшей литературы вопроса | страница 158
Если бесспорно, что «сила сознания, прирожденная человеческому духу, имеет известный предел и существует в определенных границах»; [995] если «между разнообразием, разнородностью впечатлений и силой мышления усматривается обратная пропорциональность» и т. д.; [996] и если, наконец, что самое главное, вполне справедливо implicite допускаемое автором положение, что условия подвижнического созерцания вполне аналогичны с деятельностью абстрактного мышления — отсутствие всяких впечатлений составляет не условную лишь, и относительную, а непременно безусловную и обязательную необходимость для всякого без исключения аскета-созерцателя.
Если, с другой стороны, дух человеческий, «мятежами и недугами, какие обыкновенно производит мiрская жизнь, будучи отвлекаем от драгоценного памятования о Боге, не только лишается возможности радоваться и веселиться о Боге», «но и совсем привыкает к пренебрежению и забвению определений Божиих»; [997] если «эта истина принудительно общепонятна и общеизвестна», [998] — то жизнь в строжайшем уединении в полном и совершенном отрешении от мiра с его «многолюдством», в безусловном удалении от «жизни мiра», которая «не носит на себе образа жизни по идеалу, некогда предначертанному Самим Богом», [999] — именно такая, а не иная жизнь всяким решительно христианином, пламенно стремящимся ко спасению, не только должна быть избираема предпочтительно, но бесспорно и исключительно. Ведь «основы жизни мiрской» совсем «не служат условием успешности умного созерцания», [1000] и, следовательно, один только способ избежать его, это — удаление от мiра. [1001] Однако на самом деле в выводе автор утверждает меньше, чем сколько содержится в посылках. Причина этого обстоятельства несомненно заключается в том, что, если бы автор сделал строгий, не смягченный вывод, то, рассуждая строго логически, он должен быль бы отрицать всякую возможность достижения христианского совершенства для всех тех, — монахов ли или мiрян, — которые ведут жизнь общественно-деятельную.
По нашему мнению, г. Пономарев не выяснил вполне точно и определенно аскетического учета о внешнем удалении от мiра, да и не мог этого достигнуть потому, что оставил без рассмотрения и раскрытия основного и центрального в данном случае понятия: «мiр». Между тем этот термин не настолько точен, его значение не настолько фиксировано, чтобы можно было оперировать с ним без его предварительного анализа. [1002]