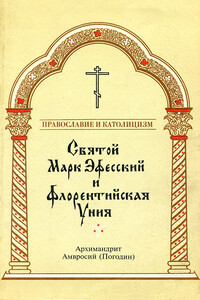Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга первая: Критический обзор важнейшей литературы вопроса | страница 107
По свидетельству, например, блаженного Феодорита «одни подвизаются совместно (κατὰ συμμορίαν ἀγωνιζόμενοι), причем таких обществ бесчисленное множество (μυρία τοιαῦτα συστήματα), — получают нетленные венцы и достигают вожделенного конца (ποθουμένης ἀνόδου). Другие, избрав жизнь уединенную и желая беседовать с одним Богом (μόνῳ τῷ Θεῷ προσλαλεῖν μελετῶντες), достигают победы, не получая никакого утешения человеческого». [660] «Одни окружают себя какими-нибудь оградами и избегают всякого стечения народа, а другие, не пользуясь никакой оградой, доступны всем желающим их видеть». [661]
Каков же общий смысл принципиальных рассуждений Ф. Ф. Гусева в научном отношении по данному вопросу? Ф. Ф. Гусев не уловил с достаточной глубиной и не оттенил с достаточной определенностью двуединства христианского религиозно-нравственного идеала, имеющего в виду — нераздельно, но и неслиянно — воспитание и осуществление «любви» и к Богу, и к ближним, ради Бога. Он разделил и обособил друг от друга оба эти равноценные требования, стремился показать их несовместимость и отдал решительное преимущество первому, совершенно почти затенив второе. Вследствие этого получилась несогласованность его положений с определенным и непререкаемым учением Св. Писания и святоотеческим его истолкованием. Для осуществления любви к ближним собственно не нашлось места у Ф. Ф. Гусева в его изображении христианского идеала. Обязанности к ближним, обособленные от чисто религиозных христианских обязанностей, оказались не благоприятствующим, а скорее прямо препятствующим условием в деле осуществления последних.
Автор ведет свои рассуждения прямолинейно, искренне, убежденно; его положения и выводы несомненно имеют за себя некоторые действительные, как психологические, так и исторические данные, и однако его прямолинейность, оказываясь односторонностью, не разрешает вопроса, хотя, по-видимому, и упрощает его, — Гусев игнорировал другого рода столь же несомненные данные. Отсюда он разрубает узел, но не развязывает его.
При разборе воззрений Ф. Ф. Гусева нами, в частности, раскрываются и доказываются следующие главные тезисы: 1) Для осуществления созерцания Бога не требуется