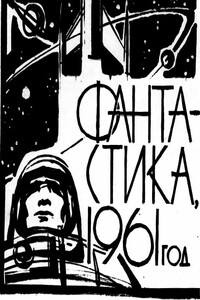Мироздание Ивана Ефремова | страница 6
Примитивные инстинкты постоянно прорываются наружу. Даже в обществе XXX века, основательно вычищенном с помощью евгеники и неусыпного генетического надзора, есть люди, поддающиеся их влиянию. Цель сознательных действий общественного человека состоит в удержании равновесия на "лезвии бритвы" между темными подсознательными силами и сознанием. Такая модификация фрейдизма как нельзя лучше входит в рамки ефремовской метафизики. Похоже, что фрейдистская схема функционирования психики нужна Ефремову лишь для того, чтобы поставить на "научные" ноги свое убеждение о борьбе Зла с Добром в человеке.
Все это очень не нравится ортодоксальным критикам. Даже если они закрывают глаза на совпадения ефремовской психофизиологии с буржуазными теориями, им мешает сама суть дела. "Ефремов все время предупреждает: оно (лезвие бритвы — Л.Г.) опасно, зыбко и в любую минуту может сдвинуть нас в пропасть подсознания. Предупреждения эти звучат угрожающе. Они превращают нас в балансеров на тонком канате, ставят под власть какой-то черты, переступив которую, мы перестаем быть людьми. Мы не хотим этого" [1]. Критикам не нужны никакие черты. Ходить по лезвию бритвы трудно и неудобно. Да и зачем, если известно, что существует новый, коммунистический тип человека, ничем не ограниченный, "цельный, безо всяких низменных начал".
ДИФИРАМБЫ ЭРОСУ
И еще одно смущает критиков Ефремова до такой степени, что они, словно по уговору, обходят молчанием бросающуюся в глаза особенность его творчества. В утопическом обществе "Туманности Андромеды" упразднен институт семьи — свободная любовь управляет взаимоотношениями всех героев. Только Ефремов осмелился поднять руку на священную первичную ячейку общества, и, славословя "Туманность", все рецензенты уговаривают писателя внять цитатам из Энгельса и отказаться от своего досадного заблуждения. Однако, уговоры не действуют. Ефремов осуждает современную советскую литературу за ханжество, яростно высмеивает ее.
В программной статье, которая может служить ключом к большинству его произведений, он пишет: "Стоит герою увидеть героиню в какой-то степени обнаженности, как он теряет голову, впадает в дикую страсть, получает по физиономии и погибает в мнении героини и читателя... Для контраста... такому бешеному отрицательному герою противопоставляется положительный, у которого нормальное влечение к женщине настолько задавлено волей авторов, что они, глядя на героиню, не смеют опустить глаза ниже ее подбородка или поднять выше колен!"