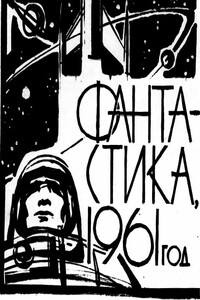Мироздание Ивана Ефремова | страница 5
В молодости Гирин вылечил женщину, страдавшую полным параличом — она видела, как белобандиты убили ее мужа. Гирин инсценирует нападение на дочь этой женщины, и под влиянием шока она выздоравливает. С тех пор Гирин изучает законы, по которым "древние инстинкты, с одной стороны, и общественные предрассудки — с другой, преломляясь в психике, влияют на физиологию".
В методе лечения, в характеристике законов нам чудится нечто знакомое. Гирин не медлит подтвердить первое впечатление. Читая лекцию по эстетике, он утверждает: наше чувство человеческой красоты — не что иное, как инстинкт полового отбора, закодированный в наших генах в то первобытное время, когда главной задачей человека было продление рода. Огромный опыт доисторического существования человечества, запечатленный в наследственной информации, — это подсознание человека, играющее огромную роль в его восприятии мира.
Но половое влечение, прямо или косвенно определяющее наше поведение, подсознание, противостоящее сознательной деятельности, — это же Зигмунд Фрейд, пребывавший под строжайшим запретом в течение десятилетий и не реабилитированный по сю пору.
Ефремов не принимает фрейдовскую теорию без оговорок. Он ни словом не упоминает, например, об Эдипе, о комплексе кастрации и т.д. Зато он говорит о силе полового созревания как о "величайшей кондиционирующей силе организма" (называя ее индийским термином Кундалини). Он утверждает, что все богатство человеческой психики зависит от "постоянной эротической остроты чувства", ибо такова присущая человеку "биохимия"
Вообще трудно установить, что происходит в подсознании согласно Ефремову. В "Лезвии бритвы" часто говорится о темных силах, в "Таис Афинской" — о "тьме первобытных чувств", о "хаосе" и таинственных "вихрях". Ефремов предпочитает не присматриваться. Тем не менее, направление его мыслей ясно.
Во-первых, для него очевидно, что Фрейд ошибался, отказываясь учитывать действие социальных инстинктов. Но, уходя от классического психоанализа, Ефремов не пристает к марксистскому берегу. Его "социальная эксцентризация" — пользуясь модным выражением — имеет мало общего с толкованиями тех западных марксистов, которые признают психоанализ, и еще меньше — с трактовкой общественного сознания в официальной доктрине. "Дикая жизнь человека, — тут Гирин поднял ладонь высоко над полом, — это вот, а цивилизованная — вот, — он сблизил большой и указательный пальцы так, что между ними осталось около миллиметра",