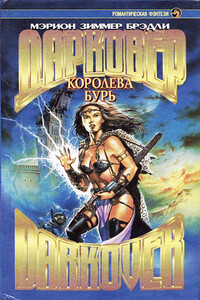Мироздание Ивана Ефремова | страница 11
Фантазия, искусство, самоуглубление — сознание — вот сила, способная изменить ход истории.
Ефремов был невнимательно прочитан и плохо понят. Успех "Туманности Андромеды" помешал разглядеть в нем что- либо другое, кроме энциклопедической выдумки, динамического оптимизма, крайнего антропоцентризма и геоцентризма. Его тут же оплели паутиной стереотипов. Возникло клише, принятое и официальными критиками, и представителями "новой волны", и западными исследователями: Ефремов считается образцом соцреалистической утопической научной фантастики, а его противоположностью называют польского писателя С. Лема и братьев Стругацких. Система же оценки здесь просто ложна. Лем поразил воображение советских фантастов — оставаясь социалистическим писателем, он касался таких тем, о которых им и не снилось. Ефремов очутился где-то на полпути между "ближними фантастами" и "новаторами". И не без согласия последних им полностью завладели стражи идеологии.
В большой мере он сам виноват в этом. Он никогда не отличался ясностью выводов, наоборот, он обставлял их объяснениями и дополнениями, зачастую искажавшими смысл сказанного. Тут равно сыграли и навыки эзопова языка, и утопический темперамент, заставлявший Ефремова браться за решение всех проблем, назойливыми мелочами снижать масштабы своих мыслей, доказывать свои недоказуемые метафизические положения наивнейшими аргументами. В такой форме его концепции легко уязвимы для критики и составляют благодарный материал для всяческих идеологических подтасовок.
Официальную критику с Ефремовым еще больше примирило его понимание искусства. Ефремов обладал определенным, но ограниченным даром: он был пейзажистом, художником природы. Ему часто удавались детали — описания архитектуры, бытовые сцены, аксессуары в исторических произведениях, — у него был натренированный глаз и предметное воображение палеонтолога. Но по мере того, как он отдалялся от конкретностей, шел к обобщениям, к своим теориям или изображению идеального общества, все чаще появлялись в его прозе неточность языка, неестественность ситуаций, слащавые образы, патетические мелодекламации. О.Мандельштам заметил как-то: "Для огромного большинства произведение искусства соблазнительно лишь поскольку в нем просвечивает мироощущение художника. Между тем, мироощущение для художника орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственно реальное — это само произведение". Ефремову такое понимание искусства чуждо. Он не верит в самоцельность творчества. Целью искусства он называет "формирование внутреннего мира человека в гармоническом соответствии с его собственными потребностями и потребностями общества". Искусство может быть только назидательным, только реалистическим (воспитывать на абстрактных примерах нельзя), говорить только о прекрасном (чтобы не искушать слабых духом). Эти убеждения характерны для традиции классической утопии, но они вполне совпадают и с требованиями соцреализма. Так получилось, что ортодоксальная форма заслонила у Ефремова содержание. И в этом главный секрет его успеха у советских идеологов литературы.