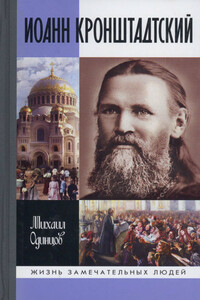XX век: прожитое и пережитое. История жизни историка, профессора Петра Крупникова, рассказанная им самим | страница 53
Так этот благодетель заботился о том, чтобы потанцевать довелось и немолодым участницам бала. Вспоминаю, что одна из них была действительно старой и очень хрупкой. Пригласивший ее кавалер танцевал с нею медленный, медленный вальс-бостон. Мне страшно нравилось, что «проблема кавалеров» была так удачно и так гуманно улажена.
Как-то справляли десятую годовщину фабрики Textiliana[55] в Задвинье. Предприятие принадлежало трем братьям Циммерманам, евреям. У одного из них была русская жена, эмигрантка из Берлина – необыкновенно красивая женщина, и в тот вечер ее мог пригласить на танец любой. На фабрике было много мужчин, рабочих и персонала, и каждому хотелось потанцевать с такой красавицей. В какой- то момент, я услышал, как она сказала мужу: «Я больше не могу…». А он в ответ: «Ты должна! Сегодня ты не можешь никому отказывать!». То была своего рода социальная демагогия, попытка строить положительные общественные отношения.
Я мог бы долго рассказывать о Риге того времени, поскольку десятки раз бывал в самых разных местах. Фотографировал и скромные русские похороны, и торжества в Большой синагоге, которая потом была сожжена. Один музыкант, латыш, рассказывал мне, что в той синагоге была самая лучшая в Риге акустика.
Не всегда надо было фотографировать свадьбы или балы. Иной раз собирались десять-пятнадцать человек и вызывали фотографа. К тому времени мне платили уже пятьдесят сантимов за час. Другое дело, что регулярно каждый понедельник, а зачастую и посреди недели надо было выходить на работу после бессонной ночи, – большинство запечатлеваемых событий были вечернего свойства.
После войны, когда я встретил фотомастера Каца и рассказал ему о своих наблюдениях, он изумился: «Ну и ну! А я ничего такого не видел, меня интересовало только одно – чтобы они были правильно сняты!».
Рига была очень своеобразной: в одно время и в одном месте существовали сразу как бы несколько городов, причем различные части рижского общества почти не соприкасались. Это замечали даже те, кто здесь успевал побыть совсем недолго, и об этом много сказано, в том числе и в художественной литературе. Например, читаешь книгу Ирины Сабуровой «Корабли старого города», вышедшую в 1950 году на немецком и переведенную затем на несколько языков, и у тебя складывается впечатление, что в период между двумя мировыми войнами здесь жили одни русские. Откроешь роман Аншлава Эглитиса «Охотники за невестами», очень популярный в свое время – он печатался с продолжением в довоенном журнале Atpūta