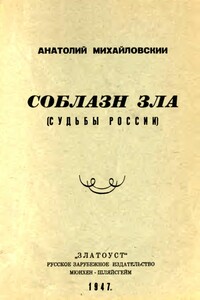Хождение по звукам | страница 60
Его популярность здесь, по воспоминаниям старших коллег-журналистов, с которыми мне довелось обсудить эту тему, началась в 1992-м с песни «The Future»: за ее без малого семь минут автор рисует здесь своим характерным глубоким, низким, почти что шепчущим голосом по-барочному пышные картины кровавой бани, в которую вскоре превратится окружающий нас мир. В советское время Коэна слушали мало, да и знания английского большинству отчаянно недоставало для того, чтобы разобраться в полных метафор и аллегорий текстах – но после того, как «The Future» вошла в саундтрек «Прирожденных убийц» Оливера Стоуна, как будто перещелкнуло некий тумблер: музыканта признали и полюбили. Тоже, конечно, не все и не всегда – некий флер элитарности по сей день окружает любое его творческое высказывание – но все же. А что до элитарности, то тут, видимо, сказывается и интонация, и сам образ артиста – всегда, в любой ситуации в неизменной шляпе и в стильном пиджаке или плаще. В 1959 году 25-летний Коэн получил за свои поэтические достижения 3000 долларов, взял билет до Лондона, а там прямо из аэропорта отправился на Риджент-стрит в бутик «Берберри» и приобрел себе голубой плащ. Тот самый знаменитый голубой плащ, о котором он споет спустя 12 лет в одной из самых личных – и самых легендарных своих песен.
К слову, «Famous Blue Raincoat» из одноименной композиции – это не только непосредственный предмет одежды, но и символ описываемой Коэном в этой песне любовного треугольника, далеко не первого и далеко не последнего в его жизни и в его творчестве. Этой старой как мир коллизии, которую автор, тем не менее, описывал очень по-своему, по-коэновски, был посвящен, например, его роман «Прекрасные неудачники», вышедший в 1966 году и названный одним критиком «самой отвратительной книгой, когда-либо написанной в Канаде» (разумеется, роман с тех пор постоянно переиздается, а о том критике уже никто и не помнит). Обратите внимание – в 1966-м у Коэна уже вышел второй роман, не говоря о сборниках стихов, то есть на момент старта своей музыкальной карьеры он был давно состоявшимся литератором; в этом его принципиальное отличие от Боба Дилана.
Интересно, что как раз Дилан в России, по ощущению, так и не стал востребованной фигурой – и не факт, что станет даже с учетом Нобелевской премии, хотя на Западе они фигуры равновеликие или почти равновеликие. В блестящей статье о Коэне в журнале «New Yorker» авторства Дэвида Ремника приводится прекрасный диалог, произошедший между ними в 1980-е: