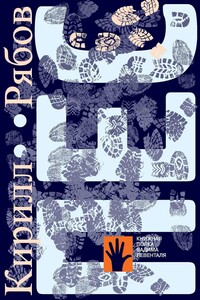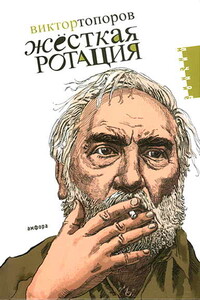Двойное дно | страница 48
Уже наутро мне позвонили трое сидевших накануне в Доме кино и поблагодарили за «отважное выступление». Потом позвонили еще десятка полтора, узнавшие о происшедшем с чужих слов. Даже чисто количественно этого было маловато, да и люди звонили мне именно что чужие. Прошло какое-то время — и «позорная» точка зрения на белодомовскую трагедию, высказанная тогда, стала общепринятой.
А сегодня, скорее всего, люди, бывшие на том собрании, весь этот эпизод — и собственные чувства, и собственную брань — забыли. Аранович вскоре запутался в темных дачных делах с Собчаком и Алексеем Германом, а потом умер. В Дом кино меня, впрочем, стали всячески зазывать еще при нем, а уж после… «Я, лично я, перед вами извиняюсь от нашего общего имени, Аранович давно умер, о чем вообще разговор», — убеждала меня, названивая по телефону, какая-то референтка Союза кинематографистов.
Да и действительно — о чем? Израиль Меттер на знаменитом собрании единственный аплодировал выступлению Зощенко — и гордился потом этим всю жизнь. А живи я сам в сталинские времена — хватило бы у меня духу на такое выступление или нет? Вопрос не столько гипотетический, сколько академический — меня наверняка посадили бы гораздо раньше. Без всякого выступления и, не исключено, без какой бы то ни было вины. Так или иначе, 5 октября 1993 года я совершил гражданский поступок — и за это прощаю себе многое. А мои, с позволения сказать, коллеги — прощаю ли я им?
Бог простит…
Мое политпротивостояние властям предержащим началось едва ли не во младенчестве, причем «со второго захода» я чуть было не посадил мать. Ехали мы с ней в трамвае, и я ни с того ни с сего поинтересовался:
— Мама, а Ленин жив?
— Нет, сыночек, умер.
— А Сталин жив?
— Конечно!
— Мама, а когда Сталин умрет?
Мама схватила меня и выбежала из трамвая на первой же остановке. Было мне тогда года три.
А за год до этого я посрамил на импровизированном допросе родного отца.
— Кого ты больше всех на свете любишь, сынок?
— Сталина.
— Ну допустим. А после Сталина?
— Маму.
— Это правильно. А после мамы?
— Маму Таню.
— Что ж, ладно. А после мамы Тани?
— Катю. (Так звали домработницу.)
— Ну хорошо, Катю. А после Кати, — спросил мой не привыкший сдаваться без боя отец.
— Кошку.
— Сынок, но почему же кошку?
— Потому что она мышов ловит.
Так мне это задним числом пересказали, заодно объяснив и причину: я был крайне недоволен очередным отцовским подношением. Однако в большинстве остальных случаев моя оппозиционность была сугубо бескорыстной.