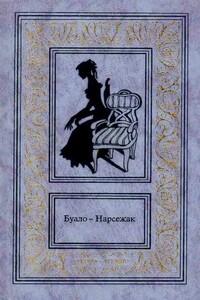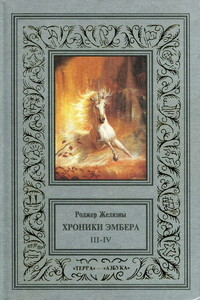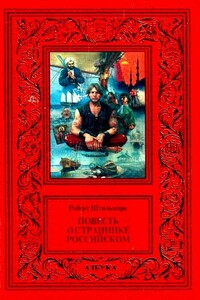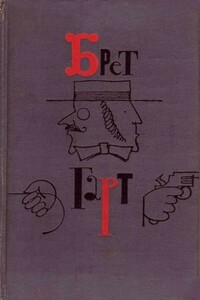На Диком Западе. Том 3 | страница 84
— А переселенцы! — воскликнул с отчаянием Роланд. — Не оставят же они меня в беде…
— И на них нельзя рассчитывать, — возразил Натан. — Услышав о набеге индейцев, они, как я узнал, решили продолжать путешествие, не дожидаясь тебя у брода. Итак, никто, кроме меня, не готов прийти тебе на помощь.
Роланд в отчаянии опустил руки и проговорил печально:
— Лучше бы было, если бы мы оба погибли: тогда мне не пришлось так мучительно беспокоиться за нее. Правда, мне бы легче узнать, что она умерла, чем узнать, что она останется навсегда в плену у краснокожих!
— Друг! — сказал Натан, который с нескрываемым раздражением слушал Роланда. — Как же ты малодушен, если уже начинаешь отчаиваться и так мало уповать на помощь Всевышнего. Ты желаешь смерти той, которая еще может стать тебе утешением в жизни? Друг, ты даже не представляешь себе, что значит потерять самое любимое и дорогое на свете существо!.. Посмотри, — продолжал он и ласково потрепал Роланда по плечу, чтобы приободрить его, — ты видишь перед собой человека, который прежде был молод и счастлив, как ты, даже, может быть, еще счастливее тебя… Да, друг, уверяю тебя, десять лет тому назад я был другим человеком, и куда счастливее!.. Была у меня счастливая семья, а теперь никого из них не осталось. И живу я один-одинешенек, тоскующий старый человек, один, как перст. И не найти мне такого места, где бы хоть одно живое существо вспомнило обо мне с любовью… Тогда я жил на границе Бетфорда, далеко отсюда в горах Пенсильвании. Там стоял дом, который я сам себе выстроил. В нем было все, что я любил и что мне было дорого. В нем жила моя старая мать, моя добрая жена, детки. Их было пятеро, сыновья и дочери, все здоровые и цветущие, маленькие, невинные создания, которые никому не сделали зла, и которых я очень, очень любил.
— Но вот, — продолжал Натан, после краткой, но тяжелой паузы, — окружили нас индейцы, так как я безбоязненно поселился на их границе: ведь моя вера делала меня мирным человеком, который сам друг всем людям и считает всех своими друзьями. Но дикие пришли, обагренные кровью моих соседей, которых они умертвили, — пришли и подняли руки на моих невинных детей. Ты спросил меня однажды, что бы я стал делать в этом случае, если бы имел оружие? Нет, друг, было у меня тогда оружие, но я доверчиво передал свое ружье и свой нож вождю, чтобы он знал, что я не смею и не хочу биться с ним. Друг, если ты хочешь знать о моих детях, я все скажу тебе. Моим собственным ножом вождь заколол моего сына. Из моего ружья он застрелил мать моих детей! Верь, что дожив до седых волос, ты все же не увидишь того, что увидел я в тот роковой день. Только тогда, когда у тебя самого будут дети и если они будут умерщвлены индейцами у тебя на глазах; когда жена твоя будет в страхе смерти обнимать твои колени, в то время как из ее простреленной груди будет струиться кровь; когда старуха-мать в последнюю минуту напрасно станет молить тебя о помощи, — тогда только получишь ты право пасть духом, потерять жажду жизни, и считать себя несчастным. Да, только тогда ты можешь сознавать и называть себя несчастным; потому что только тогда ты, действительно, станешь несчастен. Здесь вот был мой маленький сын — видишь ты? Здесь были обе его сестры — понимаешь ты это? Здесь схватился я за оружие, чтобы им помочь, — но схватился слишком поздно! Убиты, друг, все, все убиты… безжалостно заколоты у меня на глазах!