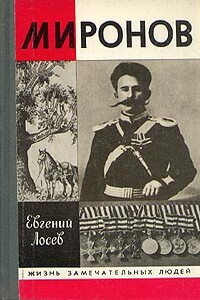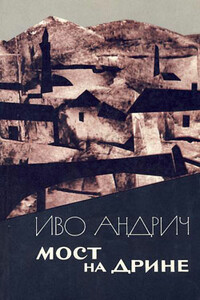У града Китежа | страница 18
— Мать-то одевала его только в годовые праздники… Пуговицы-то, пуговицы-то как сверкают, а гарус-то каким огнем горит! Повесь-ка ты его, Иван, на печь. Мил мне этот сарафан. Я берег его всю жизнь. Твоя мать в нем со мной под венец шла. Смотри, смотри, полотнищ-то сколько в сарафане! Какие душки-то у него! Ах, Агафья, Агафья… Умираю!.. Уми… — Федор Федорович закинул голову, потянулся, тяжело вздохнул…
Иван опустился перед кутником. Взял руку отца и, испугавшись ее тяжести, на коленях попятился. За его спиной, у двери, притаилась Пелагея. Вытирая фартуком с лица слезы, не сводя глаз с груды изорванных расписок, она чуть слышно спросила мужа:
— Иван Федорович, что теперича станем делать-то?
…В избах зажигали огни.
— Неужели тебе не понятно? — говорил Иван Федорович Пелагее. — Да ведь кабы отец мне оставил капитал, он бы нас с тобой несчастными сделал!
И много времени спустя не раз об этом напоминал жене. Пелагея смирилась, и Иван Федорович стал с ней душевнее. Таисия, которую Пелагея родила преждевременно, была вторым ребенком. Сын Илья и Таисия росли, радуя родителей. Иван Федорович любил семью, любил и чужих ребятишек. Заречинская «челядь» всегда торопилась вперегонки отворить Инотарьеву ворота околицы. А когда Иван Федорович собирал мед, созывал к себе родных, бедных соседей, напаивал медовницей первого попавшегося. Встречал и провожал всех ласково. Никого не выпускал голодным из избы. «Вот и пойми его, правдолюба», — говорили в Заречице.
После женитьбы он не пил, не курил. Когда стал самостоятельным хозяином, завел знатных друзей. К нему заезжали поохотиться уездный исправник, предводитель дворянства. Случалось, потянут его на охоту, а то на Керженец, за рыбой. Инотарьев арендовал у Керженского монастыря воды, поддерживал дружбу с монахами. Часто с ними встречался, но всегда упрекал: «Вы лишку берете с народа, раздеваете его!» Любил справедливых людей и людей твердого слова. Деревенское общество всегда призывал быть правдивым. Ценил людей, умеющих трезво гулять, любил песни, но сам петь не умел.
— Груб я на голос. Для песни нужно сердце, а оно у меня каменное, несуразное…
Веснами собирал мужиков, уходил с ними в харчевы к бурлакам, наставит вина, угостит любого — кто бы он ни был — и просит: «Спойте!» И под песни иногда плакал, особенно не мог себя сдержать, когда начинали тягучую: