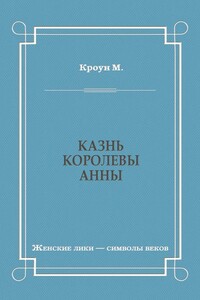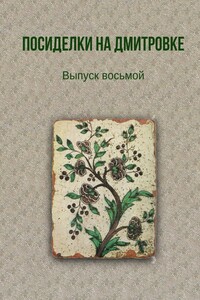Бал безумцев | страница 40
В дверном проеме появляется женский силуэт.
– Следуй за мной.
Это другая медсестра, не та, что приходила вчера. Голос у нее моложе, и говорить она старается властным тоном. Эжени думает о Женевьеве. Суровой манерой держаться сестра-распорядительница напоминает Клери-отца – в ней та же холодная отстраненность. Но отец суров от природы, а Женевьева стала такой по собственной воле. Ригоризм – результат ее работы над собой, а не врожденное свойство. Эжени прочла это в глазах Женевьевы и убедилась в своей правоте, когда назвала имя ее сестры и увидела затаенную муку во взгляде.
Эжени не ожидала, что дух явится так скоро, особенно при нынешних обстоятельствах. Она сидела спиной к двери, когда вошла Женевьева. И в тот самый момент, когда сестра-распорядительница переступала порог, Эжени почувствовала, что та кого-то привела с собой. Ощутила настойчивое присутствие – дух хотел, чтобы его увидели и услышали. Выбора не было – Эжени позволила усталости овладеть всем телом, хоть и не находила в себе сил на общение с потусторонней сущностью – только не сейчас, не здесь, не в больничной палате, не в этом наводящем страх месте. Лишь когда Женевьева назвала свое имя, девушка осмелилась взглянуть ей в лицо – и позади сестры-распорядительницы в полумраке уже стояла Бландина. Эжени еще не видела таких юных духов. Мертвая рыжеволосая девочка с округлым белым лицом напомнила ей Теофиля. В первое время Бландина молчала, позволив Эжени отвечать на вопросы, которые задавала Женевьева, затем произнесла:
«Я ее сестра Бландина. Скажи ей. Она тебе поможет».
Эжени, сгорбившись, слушала голос, звучавший у нее в голове, и ей хотелось смеяться – до того все казалось нелепым. Не далее как утром ее свободная жизнь в мгновение ока обернулась заточением в доме умалишенных, она весь день провела в тесной палате, куда едва проникал свет, и здесь ей предстояло остаться по воле отца на веки вечные, а теперь к ней явился очередной дух и обещает помочь. Действительно есть над чем посмеяться, и если бы она не сдержалась, это был бы нервический, маниакальный хохот, перенасыщенный эмоциями настолько, что буря чувств опрокинула бы ее в безумие. По счастью, смеяться не было сил, и Эжени ограничилась улыбкой. Она не знала, ради кого явилась эта мертвая девочка – ради нее или своей сестры, – но понимала, что дух дружелюбен. К тому же ей самой нечего было терять. Пасть ниже было невозможно. Поэтому Эжени заговорила о Бландине вслух, и в долю секунды Женевьева потеряла контроль над собой. Казалось, самообладание этой женщины ничто не может поколебать – она повидала столько чужих бед, скорбей, страданий и боли, но сумела вынести этот груз, и лишь потому, что не позволяла себе на них откликаться, – однако упоминание о сестре глубоко ее потрясло, ибо Эжени удалось проникнуть в тот закуток сознания Женевьевы, куда никто не допускался. И возможно, именно там крылась зыбкая возможность привлечь сестру-распорядительницу на свою сторону.