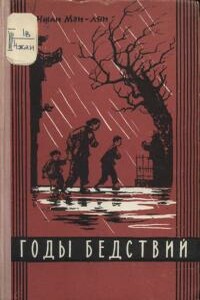Заметки на биополях | страница 57
Большинству человечества это простительнее, чем мне, – я-то знал Лешу лучше этого большинства и, значит, должен был понимать глубину и основания его перфекционизма, был в курсе состояния его здоровья (несколько последних лет, мягко говоря, очень капризного), наконец, неоформленности и даже фантастичности замысла следующего фильма (в его «овеществление» не верилось, не верил, по-моему, и сам Леша)… Потому, как мне кажется, Герман и снимал так долго «Трудно быть богом», что относился к этому фильму как к любимому последнему ребенку, которого так не хочется отпускать от себя в этот жестокий мир.
Но вернусь к предыдущему его дитяти: «Хрусталёв, машину!».
Я побывал на съемках этого фильма и на камерном просмотре отснятого материала, организованном Светланой Кармалитой. Сам Леша на просмотре, как всегда, отсутствовал. Почему? Не хотел, «с отвращением читать жизнь свою…»? Срабатывал инстинкт самосохранения? Знал, что немедленно возникнет желание сделать все по-другому, лучше, которое невозможно немедленно же реализовать?
Кстати, Леша утверждал, что никогда не смотрел ни одного фильма своего сына Алексея Германа-младшего. Почему? Возможно, хотел минимизировать свое неизбежное влияние на него…
Показанный тогда материал произвел на меня чуть ли не более сильное впечатление, чем увиденный значительно позднее фильм. Некоторых выкинутых эпизодов мне до сих пор жалко. И вообще однажды я сказал Леше что-то про передержанную пленку. Он обиделся. Я расстроился – «Хрусталёва…»-то все равно люблю.
А на его съемках я увидел две поразившие меня вещи. Во-первых – кабинет Германа на «Ленфильме». Все его стены – буквально с пола до потолка! – были обклеены фотографиями тех лет, в которые происходит действие фильма: начала 50-х. Попадая в германовский кабинет, ты действительно оказывался в другой эпохе. А кто-то еще пытается машину времени изобретать – глупые, Герман ее уже давно изобрел, и это оказалось, как все гениальное, просто!
На этих обклеенных стенах висел один из ключей (а другой хранился в потрясающей германовской памяти) к разгадке абсолютной достоверности и документальности каждого его кадра.
Написал «документальности» и сам удивился. Ведь каждый его кадр – прежде всего художественный. Да что там! Практически каждый – потрясающая картина! Но при этом еще и фотография. Иногда – фотография того, чего даже не было, но могло быть (а скорее всего, все-таки было, да никто, кроме него, не увидел)… Как скрупулезная документальность и художественность (с преображением!) сочетаются в кино Германа? Вот загадка, которую не разгадать.