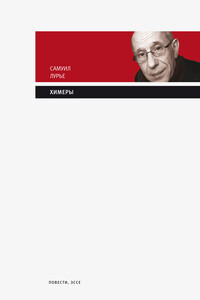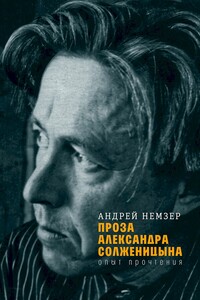Заметки на биополях | страница 52
…А сейчас, после работы, снова – на электричку. Мимо Очакова, где Юрка долго жил. В Переделкино, где он похоронен…
Собеседники
Тогда с Киевского вокзала я ехал до Очакова, до Щекоча, то есть домой. Возвращался из Болгарии, где прожил почти три месяца.
Тоскливый московский ноябрь, но на сердце радость. Это было еще то время, когда, подъезжая к Москве, я испытывал радостное волнение.
Поздний вечер. Электричка полупустая. На «плацкартной», гнутой скамейке передо мной сидит мужичок – дед Мазай без зайцев, одно ухо меховой ушанки вверх, другое вниз. В руках у него вязанье, от которого он отрывается и пристально смотрит на меня. Потом спрашивает: «А кто у нас лучший скульптор?» От неожиданности я что-то мямлю, неуверенно называю Коненкова, Шадра… «Не-е-т, – перебивает он меня, – конечно, Антокольский!» Спорить у меня нет никакого желания. Мужичок не отступает: «А кто у нас лучшая певица? Скажете – Пугачева? Она, конечно, ничего, но куда ей до Руслановой!»
Мне этот разговор начинает нравиться – в последние две недели в Болгарии самым популярным словом было «чушки» (такой сорт перца, который вся страна дружно собирает, варит, жарит и маринует осенью). Буквально везде – в транспорте, на улицах, в домах их элиты – обсуждались эти чушки и никаких тебе духовных интересов. А тут – первый же случайный попутчик-соотечественник, и – пожалуйста…
Мужичок сам себя перебил: «Вот, наверно, думаете: мужик, а вяжет, как-то не к лицу, а я пока до Апрелевки доеду дочке полкофточки свяжу, чего стесняться…» Когда я пошел к выходу, он проводил меня до тамбура и все говорил, говорил… Открылись двери, я попрощался. Последнее, что услышал: «Да, конечно, я болтун, а что, так промолчишь, простесняешься, а жизнь-то проходит…» На этих его словах двери захлопнулись и прижали одно ухо его шапки. Электричка тронулась, а я остался на перроне и, пока было видно, смотрел на это удаляющееся в ночь прижатое меховое ухо…
А самого немногословного собеседника я тоже встретил в электричке, на этой же дороге, но много лет спустя и уже по пути в Переделкино.
Вагон был набит битком и даже тамбур, где я обосновался. Меня буквально прижало к хлипкому прокуренному субъекту. «Болят мои раны!» – вдруг сказал он. Я решил, что слишком на него надавил и извинился. Он отрицательно покачал головой и кивнул в окно на гостиницу «Украина», мимо которой мы как раз проезжали.