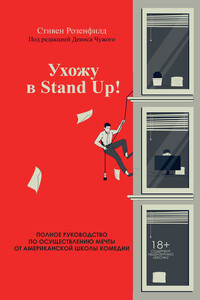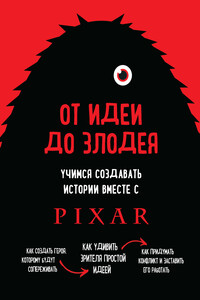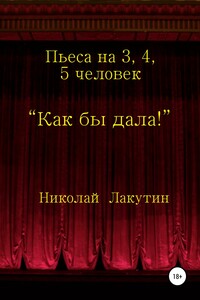Как разбудить в себе Шекспира | страница 41
Итак, были выбраны два дня ноября 1986 года – когда Пригов расклеивал свои «Обращения к гражданам» и был за это схвачен и помещен в психушку, откуда его пришлось вызволять. К счастью, были живы и находились в Москве некоторые участники тех событий – сама Надежда Георгиевна, Евгений Попов и Виктор Ерофеев. У всех них я взяла интервью, где они рассказали о том дне и как они его запомнили. Оказалось, что запомнили они его по-разному, и некоторые детали разнились, и когда я им пересказывала другие воспоминания, они это как-то комментировали. Все это вошло в текст пьесы, которая представляет собой документальный текст с мелкими вкраплениями восстановленных диалогов, которые раньше были косвенной речью. Оказалось, что интонации всех трех рассказов совершенно разные: героическая и трагическая у вдовы, юмористическая у Попова и скептически-романтическая у Ерофеева. И этот контраст интонаций создал некий объективный объем, вызывающий доверие, – некая правда жизни была восстановлена сложением разных взглядов.
И необходимой вишенкой на торте послужило последнее интервью, которое дал внук Дмитрия Александровича, Георгий. Он, как оказалось, проникнут свободой и духом своего великого деда – он изобрел свой собственный несуществующий язык. Это дало некий вектор в будущее, бессмертие самому Пригову. В итоге получились слои: разные взгляды на одно событие, которое от этого ожило, тексты Дмитрия Александровича, рассказ Георгия и его стихотворение на несуществующем языке. Как сказала Надежда Георгиевна: «Дима бы сам сочинил что-то в таком духе».
Итак, о чем же вам написать свою пьесу? О чем – это и вопрос выбора темы, и кристаллизация своего месседжа: что я хочу сказать? Отвечая на вопрос «о чем?», нужно действовать сразу в двух, противоположных направлениях: направить вектор поиска в себя и в мир. Изучая то, что нас волнует и задевает, что вызывает наш гнев, зависть, тоску, боль, что нас пугает и фрустрирует, мы находим и темы, и месседжи. Изучая мир, мы учимся понимать свое время.
На пересечении обоих векторов и лежит пьеса – нужно дождаться резонанса. Так произошло с Достоевским, который увидел и бесовское время вокруг, и бесов в себе. Мераб Мамардашвили: «Важен опыт Достоевского <…>, описавшего действительных бесов, поскольку он следовал, по его собственным словам, не реалистическому описанию, а реализму души, – он описал их как возможность собственной души. Достоевский как бы поймал это в себе и эксплицировал действительный смысл и действительный облик того, что существовало в виде побуждений в нем самом, – побуждений, типичных для российского общества не только тогда, но и позже с еще большей силой. Он делал это с сознанием, что “бесы – это я”, и, останавливая это в себе, он останавливал это как возможность и в других людях, и в других местах. “Бесы – это я” – он останавливал в себе эту возможность <…> Ведь в каких-то точках должны прерываться акты рождения бесов; доступная точка – это ты сам».