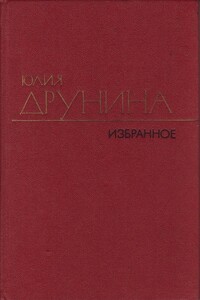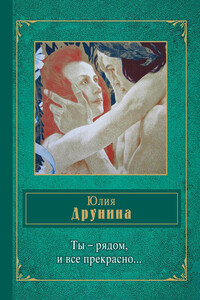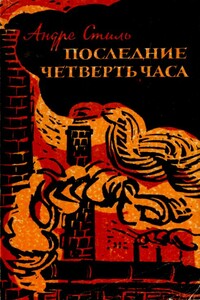Избранные произведения в 2 томах. Т. 2. Стихотворения 1970–1980; Проза 1966–1979 | страница 95
Болотистые леса, то и дело пересекаемые реками, холмы, то есть высотки, господствующие над местностью, – каждый метр был укреплен, огражден минными полями, ощерен несколькими рядами колючей проволоки. Здесь вцепилась в землю группа фашистских армий «Центр», численностью в один миллион двести тысяч человек (цифру эту я, естественно, узнала уже после войны).
Зима тогда стояла гнилая, похожая на позднюю осень. В этих проклятых болотах и окопа-то нельзя было отрыть как следует: ковырнешь землю поглубже – вода. Меня вечно мучила одна неразрешимая проблема: что хуже – валенки или сапоги?
В валенках теплее, но они впитывают воду, как губка. В сапогах сухо, но зато ноги сразу же превращаются в ледышки…
Наши войска шли по насквозь простреливаемой местности в лоб на пулеметы, полегшие батальоны заменялись другими, снова перемалывались, их опять сменяли новые.
Одной из дивизий, брошенной в эту беспощадную мясорубку, была и моя Ромодано-Киевская.
У доживших до Победы солдат переднего края, особенно пехотинцев, обычно не остается однополчан, не остается товарищей по окопу – слишком мал процент уцелевших…
Но мне повезло. Уцелел командир моего санвзвода Леонид Кривощеков. И не только уцелел, но и стал писателем. И не только стал писателем, но в одном из своих рассказов вспомнил о нашем батальонном медпункте, о Герое Советского Союза Зине Самсоновой, о Марусе – втором санинструкторе – и немного о третьем санинструкторе, то есть обо мне, пришедшей на место убитой Маруси.
Не без некоторого смущения я позволю себе привести цитату из этого документального рассказа, для того чтобы подчеркнуть – даже невыносимо тяжелая, грубая, жестокая проза войны не могла выбить из меня того, что отец называл когда-то детской романтикой.
«Впечатлительная московская девочка начиталась книг о героических подвигах и сбежала от мамы на фронт, – пишет Л. Кривощеков. – Сбежала в поисках подвигов, славы, романтики. И, надо сказать, ледяные окопы Полесья не остудили, не отрезвили романтическую девочку. В первом же бою нас поразило ее спокойное презрение к смерти… У девушки было какое-то полное отсутствие чувства страха, полное равнодушие к опасности. Казалось, ей совершенно безразлично, ранят ее или не ранят, убьют или не убьют. Равнодушие к смерти сочеталось у нее с жадным любопытством ко всему происходящему. Она могла вдруг высунуться из окопа и с интересом смотреть, как почти рядом падают и разрываются снаряды… Она переносила все тяготы фронтовой жизни и как будто не замечала их. Перевязывала окровавленных, искалеченных людей, видела трупы, мерзла, голодала, по неделе не раздевалась и не умывалась, но оставалась романтиком…»