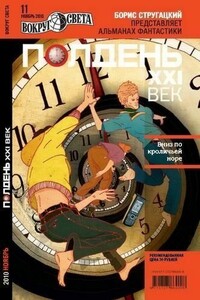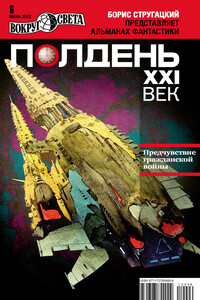Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма | страница 10
В сущности, Галину не интересует ничего сверх того, что еще недавно вполне серьезно интересовало и публицистов, и историков, и политизированных писателей-фантастов. Правда, «Автохтоны», в отличие от «Черного знамени» или «Столкновения с бабочкой», нельзя отнести к «исторической метапрозе», поскольку Галина не упоминает в своем повествовании имена реальных исторических деятелей. Однако ценностная ориентация на историю все же остается, поэтому в «Автохтонах» создается искусная имитация исторических сведений и биографий исторических деятелей, которые затем становятся объектом постмодернистской иронии и скептицистских разоблачений. Тут возникает несколько слоев чисто литературных игр — например, все фамилии в «Автохтонах», как правило, «говорящие» и отсылают к известным лицам — от русского философа Шпета до персонажа Кира Булычева доктора Верховцева. Этот сравнительно маловажный литературный прием позволяет еще точнее увидеть соотносимость «Автохтонов» с выходящими одновременно альтернативно-историческими романами: ведь в произведениях Марьянова, Арабова и Кузнецова герои тоже носят фамилии исторических лиц, но у них персонажи как бы соответствуют своим историческим прототипам, в то время как у Галиной герои — тоже исторические деятели, но не имеющие прототипов — носят чужие, принадлежащие другим историческим лицам фамилии. Это отношение к фамилиям таким образом и объединяет роман Галиной с традицией альтернативноисторической фантастики и отделяет его от нее.
Конечно, в легендах, оживающих на страницах «Автохтонов», воплощается не только мнимая история, но и всякого рода фольклор, нечисть, слухи о контактах с инопланетянами и об алхимических рецептах — то есть культурным «базисом» «Автохтонов» являются городские легенды в самом широком значении, — однако у нас в России большую часть городских легенд неизменно составляют сюжеты с упоминанием власти, войны, КГБ и гестапо. Эти сюжеты Галина дезавуирует с помощью разветвленной системы игровых приемов — однако в этих приемах, как и в этих сюжетах, нет ничего нового, а новое заключается в том, почему эти сюжеты, которые уже два с половиной десятилетия «обсасываются» нашей культурой, вдруг встретились с методикой дезавуирования, тоже, казалось бы, давно вышедшей из моды.
Фазы утери серьезности
Для всего есть свои причины, для литературного постмодерна тоже находится новая работа в русской литературе — причем именно в окрестностях исторической проблематики. Отчасти это вызвано действительно «пресыщенностью» русской культуры историческими фабулами — ведь после перестройки наша культура была уже не столько литературно, сколько именно историкоцентрична, и сказать что-то принципиально новое тут становится трудно, потому и возвращение постмодернизма уже не в литературу, но именно в исторически ориентированную литературу становится приметой эпохи — иллюстрацией того могут служить романы Романа Шмаракова и Евгения Водолазкина, профессиональных гуманитариев, докторов филологических наук, использующих свою эрудицию не для реконструкции истории — кому это теперь нужно? — а для создания прихотливых, тонко стилизованных, но неизменно игровых вариаций на исторические темы.