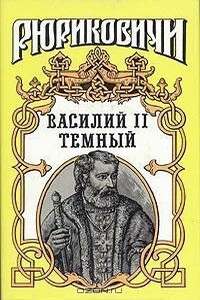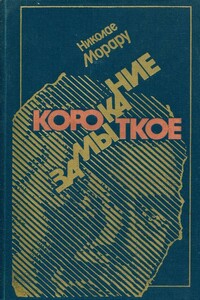Оползень | страница 50
Ехать помирать за царя и Россию он не торопился, призыва избегал всеми способами. Когда дарили писаря, пристава, когда сам прятался по заимкам у родни и ждал-дожидался того поворота, который обещан был ему, как он себя уверил, за ум, за характер, за красоту; за то, что дядья и деды безвременно в землю легли, она обязана была явить ему щедрое отдареньице. Иначе где же тогда справедливость и где бог? Ведь он слезы видит и молитвы, неслышно возносимые, принимает! Но, говорит пословица, на бога надейся, а сам не плошай. Уж что-что, а Иван не сплошает! Только: где… чего… когда?
Взгляд у него был веселый, открытый. Глаза цвета чайной заварки с красноватыми белками так и играли. Волос свалян в крутую крепкую кудрю, а бородка густая, мягкая, словно куний подпушек. Девки просто в паморок впадали, как прижмется он этой бородкой к девичьей шее да скажет хрипловатым быстрым тенорком: «Ах ты зверушка моя, промысловая, ценная!» И все, уже и хозяин он, прячет девка следы сахарных его зубов на грудях и на шее, таится от сестер, от матери, в баню вместе со всеми пойти не смеет, плачет, мочит слезами дареную рубашку на Ивановом плече, молит жениться. А он поигрывает в темноте ночи жадными разбойными глазами, усмехается, зубов белых не разжимая: «Не удоржишь, — говорит, — милка моя, не взошел я еще в силу лет и таланта». Словом, такой гумбола был, такой болтун, не приведи бог!
Он и в самом деле нигде подолгу «не задорживался». Заночевали ночь-другую в деревне — и дальше. Товарищи только с боку на бок ворочались, уснуть не могли, слушая Иванов тенорок с хрипотцой за стеной сеновала, сначала насмешливый, бойкий, заигрывающий, потом робко-просительный, все сильнее хрипнущий, все горячее густеющий, потом прерывисто смолкающий, сменяющийся стоном коротким, потом, погодя, смехом, ленивой скороговоркой Ивана, уже перемежаемой добродушной позевотой.
«Ну, готово! — говорили старатели, разморенные после бани. — Ты, голубушка, не сдавайся, правым крылушком отбивайся! Теперь и нам спать можно».
Сказать, любили его и за это бездумное баловство ночное, подшучивали над ним без зависти. Иван огрызался тоже шутейно, подсмеиваясь и над собой, и над многочисленными зазнобами. Парень он был на услугу скорый, на дружбу легкий, на работу сильный, на выпивку не шумный, в слове верный, на уступку тугой. Стали приглашать его на дележ участков, на сдачу намытого песка перекупщикам, на раздачу заработанных паев за вычетом общего котла, водки и оплаты за ночлег. У Ивана нигде к пальцам не приставало, доверие к нему росло. Его уже пытались переманить из одной старательской партии в другую, но все это было пока не то, Иван чувствовал: не то. Шанец не выпадал пока и даже не предвиделся ни в какой стороне в ближайшем будущем.