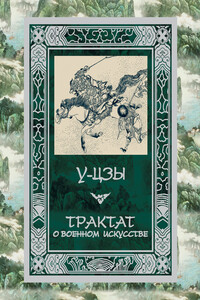Поучение в радости. Мешок премудростей горожанину в помощь | страница 31
Положение о том, что корневым свойством японцев является избирательность в культурных заимствованиях, оказалось чрезвычайно востребованным и в более поздние времена. Во второй половине XIX в., когда началось целенаправленное строительство японской нации[52] и развернулись дискуссии о том, что же представляет собой японский уникальный национальный характер, утверждение о способности японцев к заимствованиям, которые они умело приспосабливали к своим нуждам, а также гордость за то, что Япония сохранила утерянное в самом Китае, сделалось общим местом. Особенно большая роль принадлежит в популяризации этого тезиса Окакура Тэнсину (1863—1913), объявившему о том, что Япония является «азиатским музеем», в котором сохраняются образцы классического искусства Индии и Китая[53]. Однако в объяснении причин такого свойства акценты были расставлены уже по-иному. Если Нисикава Дзёкэн говорил о том, что свойства японцев являются производными от качеств японской земли, которая была создана синтоистскими божествами, то мыслители конца XIX — первой половины XX в. часто утверждали: способность японцев к заимствованиям обусловлена изначально присущим им бесподобным «национальным характером», который они получили от синтоистских божеств, являющихся их кровными предками. Сторонники такого построения с лёгкостью впадали в шовинизм, чего нельзя сказать о Нисикава. Он полагал, что «золотой век» остался далеко позади, что японцы — точно так же как и китайцы, — живут в «последние времена», и это сознание сильно ограничивало употребление превосходных степеней применительно к японским реалиям. Что до публицистов XIX-XX вв., то они сделались поборниками европейских теорий эволюции и прогресса, которые провоцируют создание дискриминационных построений по отношению к тем, кто находится на «низких ступенях» развития. Имеется и ещё одно существенное различие. Система взглядов Нисикава Дзёкэн привязывала свойства людей к свойствам среды обитания. Поскольку среда обитания японцев уникальна, то и их свойства не могут быть транслированы вовне. Пассивность сёгуната Токугава по отношению к освоению (покорению) внешнего пространства вполне вписывается в эту мыслительную парадигму. Что до японского тоталитаризма XX в., то он, в духе западного колониального просветительства, был чрезвычайно озабочен насильственным навязыванием своих ценностей другим (в особенности азиатским) народам. Остаётся добавить, что связка «земля—люди» была в значительной степени переосмыслена в дискурсе 60-80-х гг. XX в. в связи с экономическими успехами Японии. И тогда стали говорить о том, что национальный характер японцев таков, что он позволил им создать превосходную антропогенную среду обитания.