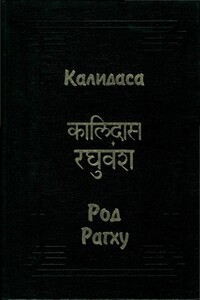Поучение в радости. Мешок премудростей горожанину в помощь | страница 24
Многие современные публицисты-историки, находящиеся под воздействием идеологических флюидов своего времени, часто обнаруживают в сословном характере японского общества только отрицательные черты, унижающие «достоинство» человека. На самом деле ситуация, разумеется, не может истолковываться столь однозначно. Нисикава Дзёкэн не мечтал о переходе в самурайское сословие, в положении горожанина он находил немало достоинств. Он считал, что самурайская верность сюзерену наносит ущерб высшей ценности — соблюдению сыновнего долга (№ 13). Свойственный для самурайства культ силы тоже возмущает его. Сославшись на один самурайский трактат, где утверждалось, что «воину позволяется забрать себе чужую землю» (а это был расхожим допущением эпохи междоусобных войн)[40], Нисикава решительно возражает: «Трудно согласиться с этим. Горожанин не управляет людьми — люди управляют им, а потому горожане не пишут в своих сочинениях таких ужасных вещей» (№ 72).
В эпоху Токугава Япония подвергла себя добровольной самоизоляции, отношения с заграницей свелись к минимуму. Всё европейское (христианское) подлежало безоговорочному осуждению, поскольку вступало в конфликт с основополагающими местными ценностями. Более сложным оказалось отношение к Китаю, который в течение многих веков играл для Японии роль культурного донора. В предыдущий период в Японии господствовала картина мира, согласно которой крошечная и раздираемая усобицами Япония находилась на периферии культурного центра, который помещали или в Индии (так считали буддисты), или в Китае (так полагали приверженцы различных китайских учений). Но в период Токугава ситуация решительно меняется — мирная жизнь и независимость страны (в то время как «исконно-настоящий» Китай был завоеван маньчжурами, а Индия — моголами) способствовали росту гордости за родину и пересмотру устоявшегося мнения об ущербности Японии.
Проблема культурных заимствований, соотношения «своего» и «чужого» активно обсуждалась мыслителями эпохи Токугава. Наиболее радикальную позицию занимали представители «школы национального учения», которые фанатично доказывали превосходство «исконной» японской культуры над иноземной[41]. «Исконная» японская культура — это культура, хронологически соотносимая со временем синтоистского мифа и правлениями первых легендарных «императоров». Её чистота и незапятнанность были позднее «испорчены» (буквально «испачканы» или «запятнаны») китайским лжемудрствованием и буддизмом, которые должны быть осуждены и отвергнуты. Конфуцианство и его последователи попадали для нативистов в категорию «кангаку» («китайское учение»), которое было для них бранным словом. Показательным примером может послужить сборник пятистиший-танка, сложенных Мотоори Норинага, одним из столпов «национального учения»