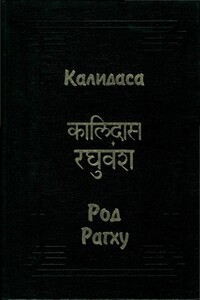Поучение в радости. Мешок премудростей горожанину в помощь | страница 22
Находясь в этой системе понятий, мир прошлый, нынешний и будущий представал объяснённым и предсказуемым. Безоглядная вера в креационный синтоистский миф и объяснительную силу «принципа» Ли, Инь-Ян и т.п. свидетельствуют о том, что представления Нисикава о «предрассудочности» и «суевериях» довольно сильно отличались от того смысла, которое мы вкладываем в это понятие ныне. С точки зрения постулатов позитивистской науки основой его рассуждений всё равно являлись допущения, которым не дано быть доказанными. Впрочем, такова судьба всех глобальных теорий и борцов с предрассудками, которые на место старых «предрассудков» водружают новые. Несомненно, что для будущих поколений наши собственные «научные» теории будут тоже представляться вполне предрассудочными и суеверными.
Отношения Нисикава с чжусианством нельзя рассматривать однозначно. Несмотря на то что он обучался неоконфуцианству и использовал его словарь, в его произведении имя Чжу Си не упоминается, ссылки на его труды отсутствуют. Нисикава не нравилось иконоборчество одного из основоположников неоконфуцианства Чэн-цзы (№ 150), настаивавшего на поклонении поминальной табличке, а не изображению покойного. Нисикава предпочитал цитировать древние первоисточники, напоминая в этом отношении Огю Сорай и других представителей школы «учения древних знаков». «Древний Китай» представлял для Нисикава непререкаемый авторитет. В этом понятии ключевым словом является не «Китай», а «древний». Придерживаясь убеждения в том, что «золотой век» миновал повсюду, Нисикава не делал принципиального различия между древним Китаем и древней Японией — эти страны обладали для него не столько пространственным, сколько временным измерением. «Путь японских богов — это не то что [нынешний] закон Конфуция и Будды, этот путь соприроден обычаям страны, наверное, он соответствует пути Конфуция в древнем Китае» (№ 151). А уж идеи относительно превосходства природных условий Японии над Китаем (которые он обосновывал с помощью понятийного аппарата конфуцианства) приближают его к мыслителям сугубо японской школы «национального учения» (кокугаку), о существовании которой в Китае вряд ли подозревали. Заимствуя китайские слова, Нисикава расставлял их в японском порядке. Это касается не только грамматики, но и смыслов. Поэтому для подтверждения своих умозаключений он не избегает цитировать японских авторов, которые не имели никакого отношения к конфуцианской мысли. Это и «Записки на досуге» буддийского монаха Ёсида Канэёси (Кэнко-хоси), и «Записки у изголовья» аристократки Сэй-сёнагон, и стихи из императорских антологий.