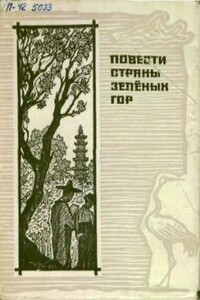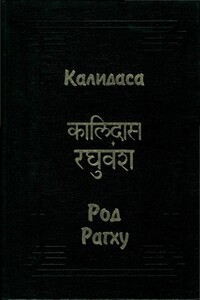Поучение в радости. Мешок премудростей горожанину в помощь | страница 16
Разумеется, речи «некоего человека» — в значительной степени литературный приём, который был широко распространён в трактатах того времени. «Некий человек» высказывает суждения, они служат для того, чтобы автор имел возможность выстроить свою картину мира, которая верифицируется ссылкой на авторитеты (в основном на произведения конфуцианской классики). Введение фигуры собеседника, который не принадлежит ни к какой конкретной школе, создаёт также возможности для демонстрации разных точек зрения и, в конечном итоге, для преодоления догматизма.
Находясь внутри сословного деления общества, Нисикава Дзёкэн адресовал своё сочинение прежде всего горожанам, т.е. людям, которые занимали последнее место в общественной иерархии вслед за самураями и крестьянами. Не возражая в принципе против такой стратификации, автор, тем не менее, подчёркивает первостепенную важность горожан для функционирования всего государственного и общественного организма. В то же самое время он сетовал, что «слова почтенных мудрецов (древнекитайских мыслителей.— А.М.) обращены к богатым и бедным, высоким и низким. Они должны служить наукой и в людских писаниях, и в людских речах. Они должны быть усвоены всеми четырьмя сословиями. Беда в том, что мудрые слова обращены или к образованным и благородным мужьям, или ко всем без разбору. Что до нужд горожанина и крестьянина, то такие поучения редки» (№ 77)[27].
Недостаток нравоучительных сочинений, обращённых к горожанам, сподвиг Нисикава взяться за кисть[28]. Находясь в рамках сословного дискурса, он не претендовал на всеобщность своих соображений, но хотел, чтобы и горожанин тоже имел свои собственные ориентиры и предметы для гордости — точно так же, как и самурайское сословие имело свои[29].
Намеренная бессистемность изложения свойственна многим произведениям японской словесности и возведена в ранг жанра, именуемого «дзуйхицу» — «вслед за кистью». Место дзуйхицу в жанровом многообразии было достаточно заметным, «бессистемность» воспринималась не как недостаток, а как свидетельство многогранности дарования и живости восприятия. Такие произведения, как «Записки у изголовья» («Макура-но соси») Сэй-сёнагон и «Записки на досуге» («Цурэдзурэ гуса») Ёсида Канэёси часто цитировались средневековыми (и современными) авторами[30]. Принципиальная фрагментарность этих произведений обусловливала ту лёгкость, с которой их фрагменты могли кочевать из одного сочинения в другое