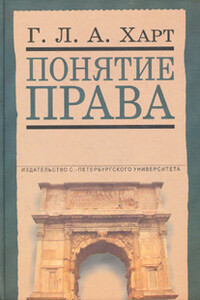Право, свобода и мораль | страница 43
Сохранение морали в этом смысле, когда оно представляет очевидную ценность, следует далее отличать от просто морального консерватизма. Последний представляет собой утверждение, что сохранение от изменения любой существующей нормы некоторой общественной морали, каким бы ни было содержание этой нормы, является ценным и оправдывает поддержание этого при помощи права. Это утверждение было бы, по крайней мере, вразумительно, если бы мы могли приписать всей общественной морали тот статус, который теологические системы или доктрина естественного права придают некоторым фундаментальным принципам. Тогда, по крайней мере, был бы приведен некоторый общий принцип в поддержку утверждения о том, что сохранение любой нормы общественной морали представляет ценность, оправдывающую обеспечение ее соблюдения при помощи права; было бы сказано нечто, указывающее на источник этой утверждаемой ценности. Применение этих общих принципов к рассматриваемому случаю тогда было бы чем-то, требующим обсуждения и аргументации, а моральный консерватизм был бы формой критической морали, применимой к критике общественных институтов. Он не был бы – каковым является в отрыве от всех таких общих принципов – грубой догмой, утверждающей, что сохранение любой общественной морали с необходимостью перевешивает ее цену в виде человеческих страданий и ограничения свободы. В этой же догматической форме он, по сути, выводит любую общественную мораль из сферы любой моральной критики.
Несомненно, критическая мораль, основанная на теории, согласно которой вся общественная мораль имеет статус божественных повелений или вечной истины, открываемой разумом, по очевидным причинам сейчас не казалась бы убедительной. Это, возможно, в наименьшей степени убедительно в отношении сексуальной морали, которая определяется, очевидно, меняющимися вкусами и конвенциями. Тем не менее попытка отстаивать поддержание морали при помощи права в этом духе представляла бы собой нечто большее, чем простое бездоказательное утверждение, что это оправданно. Следует отметить, что великие социальные теоретики, такие как Берк и Гегель, которые были в числе тех, кто более всего стремился защитить ценность позитивной морали и обычаев конкретных обществ от утилитаристской и рационалистической критики, никогда не считали достаточным простое утверждение о том, что все это ценно. Напротив, в поддержку своей позиции они задействовали теории природы человека и истории. Главный аргумент Берка, находящий выражение в категориях «мудрости веков» и «перста Провидения», по своей сути является эволюционным: социальные институты, медленно развившиеся в ходе истории любого общества, воплощают приспособление к нуждам этого общества, которое всегда с большей вероятностью будет лучше подходить массе его членов, чем любая идеальная схема жизни общества, которую могут изобрести индивиды или которую может навязать любой законодатель. Для Гегеля ценность установившихся институтов любого конкретного общества основывалась на тщательно разработанной философской доктрине, трудной для понимания, которую, конечно же, невозможно адекватно изложить в одном предложении. В общих чертах это доктрина о том, что история человеческих обществ представляет собой процесс, посредством которого Абсолютный дух проявляет себя, и что каждая стадия этого развития есть рациональный или даже логический шаг и поэтому нечто ценное.