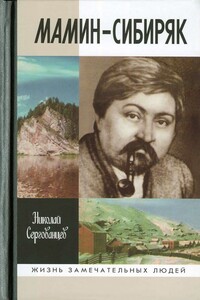Их было трое | страница 16
— Гм… в некотором роде… — промямлил он. — Мы состоим в родстве с князьями Бековичами и Анзоровыми из Большой Кабарды… Собственно, наш род тоже княжеский, хотя правительством официально еще не признаны привилегии дигорских баделят.
— А-а! Вы опять про своих баделят толкуете? Любопытно! — произнесла показавшаяся в дверях гостиной Ольга.
— Здравствуйте, Константин Леванович! Здравствуйте, господа!
Ольга присела к круглому столику, положила подбородок на маленький кулачок и, глядя озорными глазами в глаза юнкера, сказала:
— Что же вы замолчали, продолжайте… Насчет породистых баделят, да? Не обижайтесь только, я шучу, конечно…
Тамур покраснел еще больше, Хетагуров кусал губы, чтобы удержаться от смеха. Блондин с заплывшими глазками и бриллиантовыми запонками с безразличным видом рассматривал акварель Владимира «Эсминец «Стремительный» на рейде». Мичман полудремал в кресле — он с детства привык к проказам сестры и не удивлялся им.
Вся в облачках кружев в гостиную вплыла хозяйка дома, Клементина Эрнестовна. Прищурившись, посмотрела на Хетагурова.
— Рада вас видеть, мон шер. Володя рассказывал о вас много приятного.
Хетагуров поклонился.
Обед проходил шумно, за столом было около двадцати человек. Немного опоздал хозяин дома Владимир Львович Ранцов. Розовый, круглый, довольный, он усаживался за стол и громко рассказывал гостям о посулах правительства.
— Это прогресс, господа! Недалек день, когда придут новые послабления и дышать станет легче.
— Как это, папа, на Украине говорят: «Пока солнце взойдет, роса очи выест»? — не без ехидства спросил Владимир.
— На каждую пословицу, мой мальчик, есть контрпословица: «Терпение и труд все перетрут». Могу утвердительно сказать, господа, что мы с вами будем свидетелями гуманнейших правительственных реформ. Впрочем, давайте лучше поговорим об искусстве, о поэзии…
После обеда сидели в диванной комнате. Лейтенант Клюгенау и юнкер Кубатиев молча и сосредоточенно курили крепчайшие сигары. На некоторое время беседой завладел литературный критик Арсеньев. Он, видимо, продолжал давно начатый разговор.
— Что такое поэзия Майкова, господа? Античное искусство, сонм греческих богов, красота природы. К бурному, страстному, героическому он менее восприимчив, чем к мягкому, легкому, ласкающему слух, убаюкивающему душу…
Критик размахивал рукой, и яркий камень на массивном перстне прочерчивал в воздухе огненные зигзаги.
— Вы говорите о раннем Майкове? — вступил в разговор Хетагуров. — Скажите откровенно, какая польза отечеству и народу от «убаюкивающих душу» стихов? Я что-то не вижу проку, хотя люблю красоту. Вот у Пушкина…