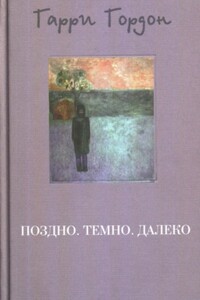Отбой! | страница 25
Раздался свисток кондуктора.
До самого вагона мы с отцом шли рядом, плечом к плечу, не говоря ни слова. И, лишь услышав этот свисток, мы вдруг торопливо бросились в объятия друг друга.
— Храни тебя боже, сынок! — взволнованно прошептал он.
Таким непривычным было в его устах это слово «сынок», и произнесено оно было таким необычным тоном…
Когда уже не имело смысла махать платком и город, вслед за вокзалом, скрылся в котловине, мы расселись по углам и мрачно уставились в окна. Все молчали. Деревья вдоль полотна и кадры пейзажа, мелькающие под стук вагонных колес, — какое привычное и вместе с тем трогательное зрелище! От монотонной тряски вагона словно прорвалось напряжение: крупные беззвучные слезы, которые мы сдерживали до этой минуты, сами потекли из глаз. Многие даже не замечали их.
После пятой остановки все уже спали, вконец измученные переживаниями дня. Как убитые проспали мы до самой Праги. Там на вокзале Франца-Иосифа в наш вагон влез маленький пражанин с чемоданчиком. Никто его не провожал. Беглым взглядом окинув вагон, новый пассажир сразу полез наверх, на багажную полку, и, устроившись поближе к свету, вынул из кармана своего драного пальтишка какую-то книгу. Перед тем как начать читать, он оглядел нас и произнес:
— Добрый вечер!
Мы заметили, что у него приятный глубокий голос.
— Меня зовут Иозеф Губачек, — сообщил он и погрузился в чтение.
Ребята поглядывали на него немного удивленно и насмешливо, но новичок, занятый книгой, ни на что не обращал внимания.
Болтовня в вагоне продолжалась. Вдруг у кого-то сорвалось непристойное слово.
— Ай, ай, ребята! — укоризненно раздалось сверху.
В ответ грянул общий хохот. Видимо, у всех была потребность посмеяться; запас смеха долго копился в нас и искал выхода.
— Пепичек, слезай вниз! Поди сюда, Пепичек, а Пепичек[17], — кричали ему.
Так и осталось за ним навсегда это имя — «Пепичек». При всех воспоминаниях о нем, веселых или печальных, даже при посещении посмертной выставки его картин в «Манесе»[18], я, безмерно подавленный великой несправедливостью его судьбы, думал о нем как о Пепичке. Не о художнике Иозефе Губачеке. О Пепичке.
Помнится, я влез к нему наверх, заинтересовавшись книгой. Это был «Тощий кот» Анатоля Франса. Чемодан Губачека был больше чем наполовину заполнен книгами. Кроме книг, там почти ничего не было. Не было у Пепичка и родных, лишь один брат — старше его на два года и еще больший неудачник, чем он сам, торчавший где-то в окопах на итальянском фронте. Слово «сирота» в полном смысле было как нарочно придумано для Пепичка. Жил он у опекуна и вот уже три года зарабатывал уроками.