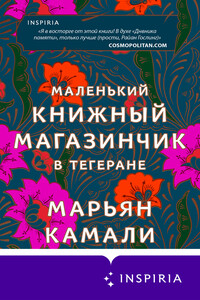Игра в молчанку | страница 82
Но не успели мы и глазом моргнуть, как Элинор вступила в подростковый возраст. В этот период мы особенно остро нуждались в сочувствии, понимании и других проявлениях родительской солидарности со стороны тех, кто когда-то сталкивался с аналогичными проблемами – капризами, упрямством, резкими сменами настроения. Помнишь, Мегс, как нам было приятно, когда кто-то из друзей со вздохом признавался, что в свое время тоже не мог заставить свое буйное чадо ложиться спать в одно и то же время. Подобные речи проливались на наши души подобно целебному бальзаму!..
Между тем усталость, накопленная бессонными ночами, не давала нам даже выработать общую стратегию поведения. Когда я предлагал хотя бы побеседовать с Элинор, ты советовала просто проявить терпение: в конце концов, у нее каникулы, говорила ты, все подростки ведут себя так и так далее. И наоборот: когда от беспокойства ты начинала выходить из себя (Нет, ты обязана сказать нам, где ты! Ты даже не представляешь, как мы волнуемся!), я советовал не горячиться, взять себя в руки, быть с ней помягче. Мы не хотели рисковать, мы боялись, что она оттолкнет нас навсегда, не так ли, Мегс?.. Вот почему мы ночами напролет лежали без сна, снова и снова повторяя нашу новую мантру, передавая ее друг другу как ингалятор: «Ничего не попишешь, трудный возраст».
Сейчас, впрочем, мне кажется, что нам надо было думать не о «трудном возрасте» Элинор, а о том, что он рано или поздно закончится, и у нас начнутся настоящие проблемы. Но тогда… Тогда я просто не мог понять, что происходит, и куда подевалась наша дочь – сердечная, отзывчивая девочка, которую мы окружали нежностью и заботой. У меня в голове не укладывалось, что та же самая Элинор, которая когда-то могла потратить целый день, чтобы нарисовать мне открытку на День отца (маленький шедевр в стиле «палка, палка, огуречик»), теперь глядит на меня, как на постороннего человека, который с какого-то перепуга решил, будто имеет право вторгаться в ее жизнь. Если это и был подростковый бунт, то он настолько не вязался с тем, что́ мы знали о нашей дочери, что я просто терялся. «Это не моя жизнь, это не моя дочь!» – вот что я думал, Мегс, когда Элинор, сердито топая башмаками, выскакивала за дверь, чтобы снова вернуться уже под утро. Она больше не сидела со мной в патио, не задавала сложных вопросов, а я, когда у меня затекали ноги, по-прежнему не решался положить их на сиденье второго кресла.