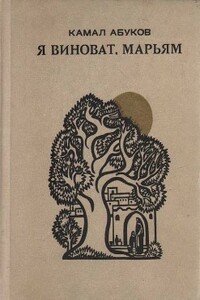Импульсивный роман | страница 40
А с черного входа подымаются по лестнице те, кто должен, как ни крути, появиться. Теперь они уже в гостиной. Их трое: Фира, бывшая прислуга Болингеров, и двое фабричных: толстый и пожиже, с лысинкой.
Сидевшие за столом испугались бы, не будь с фабричными их Фиры, будь сами они не со спичечной фабрики, знакомыми. Фира была своя, фабричные тоже, Юлиус так просто узнал одного, который часто заходил к нему в магазин и интересовался увеличительными стеклами для сынишки. Юлиус почувствовал родную душу в фабричном тогда и сейчас, когда тот мялся у двери (тот, что пожиже, с этим фабричным подолгу смотрели они в увеличительные стекла, и Юлиус вдруг срывался и начинал рассказывать о тайне стекол, о мире, который когда-нибудь откроется в необыкновенное стекло совсем другим, и с радостью видел, что тот пытается понять его и — что было еще главнее для Юлиуса — верит), сняв шапку и вроде бы кланяясь Юлиусу, и тут же опасливо покосился на Фиру. И Юлиус мгновенно понял, что главная здесь — она. И это подтвердилось, потому что Фира толкнула в спину того, что любил стекла… и он, прокашлявшись, и все же хрипло, сказал только одно слово: екс-про-прия-ция. Сказал по складам, потому что, видимо, недавно узнал его и выучил и оно для него еще ничего не значило и было чужим.
Юлиус улыбнулся. Это получилось непроизвольно, от внутреннего внезапного освобождения. Наконец. Ему хотелось, чтобы все было скорее, дальше, дальше, к концу чего-то. Всеобщее напряжение коснулось и его, конечно, однако в отличие от всех он не боялся, не страшился, а тихо созерцательно радовался. Он ждал чего-то и для себя лично. Он бы даже сказал — чего — если бы у него вырвали это признание. Оно было, в общем-то, при всей своей простоте — страшно. Он хотел освободиться ото всего, что ему принадлежало, — от магазина, от денег, от дел, все это давно тяготило Юлиуса, и он уходил в магазин, чтобы не думать, чем станет такой конец для его близких. Давно уже он не был никаким магазинщиком, деловым человеком. Он любил стекла, их нераскрытую тайну, которую — единственно о чем сожалел — не ему дано открыть. И все. Больше ничего в свете ему не было надо. Были еще любимые девочки (так он называл всех трех), которым он принес бы своим разорением (оно пришло почти…) невыносимое горе. В том мире, который был… А теперь, он знал — точно знал! — что все будет другое. И не будет иметь значения то, что имело. Разорится Юлиус или нет, все будет другим. И пусть скорее все свершится, и даже лучше, если он, Юлиус, будет как бы в стороне. Все же не хотелось ему до конца огорчать своею несостоявшейся деловой судьбою Зинушу, перед которой он очень виноват. Был у него свой этот маленький, как говорится, мелкий интерес. Мелкий? Ну, пусть так. Потому и улыбнулся Юлиус. И еще одна мелкая забота его снедала: чтобы стеко́лки его остались ему, собрал бы он их в заплечный мешок да и ушел по городам и весям, неся мешочек как большое неоценимое богатство.