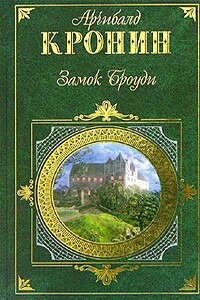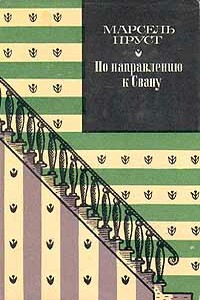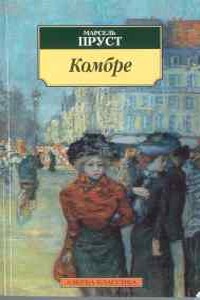Сторона Германтов | страница 110
Когда занавес упал и мы прошли на сцену, я оробел и попытался завязать оживленный разговор с Сен-Лу, потому что не знал, как себя вести в этом новом для меня месте, и рассчитывал, что разговор меня увлечет и поведение мое полностью ему подчинится; тогда все будут думать, что я поглощен беседой и не обращаю внимания на окружающее, и никому не покажется странным, что выражение лица у меня не такое, как полагается в этом мире, который я едва замечаю, поскольку сосредоточен на собственных словах; второпях я ухватился за первую подвернувшуюся тему.
— Знаешь, — сказал я Роберу, — ведь в день отъезда я пошел с тобой проститься, как-то у нас все не было случая это обсудить. Я с тобой тогда поздоровался на улице.
— И не говори, — отвечал он, — такое огорчение; мы встретились у самой казармы, но я не мог остановиться, потому что уже сильно опаздывал. Поверь, я очень расстроился.
Значит, он меня узнал! У меня до сих пор перед глазами стоял его отчужденный жест, когда он поднял руку к фуражке, ни единым взглядом не выдал, что он меня знает, ни единым жестом не показав, как ему жаль, что он не может остановиться. Разумеется, в тот момент он прикинулся, будто не узнаёт меня, потому что так ему было гораздо проще. Но меня поражало, как быстро он сумел принять решение и ни единым движением не выдав, что он меня узнал. Я уже замечал в Бальбеке, что с наивной искренностью лица, из-за которой сквозь щеки и скулы внезапно просвечивал всплеск каких-нибудь чувств, в нем прекрасно уживалась безукоризненная вышколенность тела, приученного, благодаря воспитанию, к притворству во имя приличий, так что он, подобно превосходному актеру, мог в полку и в светском обществе проигрывать одну за другой самые разные роли. По одной из ролей он от всего сердца меня любил и обращался со мной прямо как с братом; и он действительно был мне братом и теперь вновь вел себя по-братски, но на какой-то миг он стал совсем другим, незнакомым человеком — монокль в глазу, поводья в руках, — и этот человек, не одарив меня ни улыбкой, ни взглядом, поднес руку к козырьку фуражки и четко отдал мне честь по-военному!
Я проходил мимо еще не убранных декораций: теперь, вблизи они выглядели убого, лишившись той дистанции и того освещения, которые принял в расчет расписавший их великий художник, а когда я подошел к Рашели, оказалось, что и ее внешность пострадала ничуть не меньше. Крылья ее прелестного носа, так же как очертания декораций, остались где-то там, на той сцене, что была видна из зала. А это уже была не она, я узнал ее только по глазам, последнему прибежищу личности. И форма, и сияние этой юной звезды, еще недавно такой ослепительной, исчезли. Зато, словно на лунном диске, который, если к нему приблизишься, уже не кажется ни розовым, ни золотым, на ее лице, еще недавно таком гладком, я уже замечал только бугры, пятна да вмятины. Хотя на близком расстоянии не только женское лицо, но даже раскрашенные холсты оказались сами на себя непохожи, я был счастлив очутиться здесь, пробираться между декорациями среди закулисного беспорядка, который раньше я, любитель природы, счел бы грубым и искусственным, но теперь, благодаря Гёте, запечатлевшему его в «Вильгельме Мейстере», он являл мне своеобразную красоту; и я пришел в восторг, заметив среди журналистов и светских молодых людей, поклонников актрис, которые раскланивались, болтали, курили, будто на улице, юношу в черной бархатной шапочке, в юбочке цвета гортензии, со щеками, разрисованными красным карандашом, будто страница из альбома Ватто