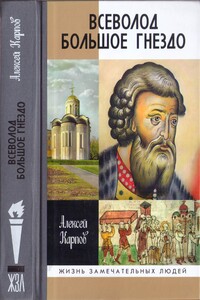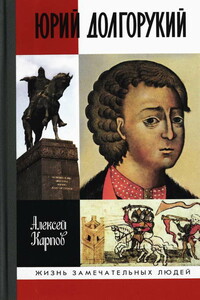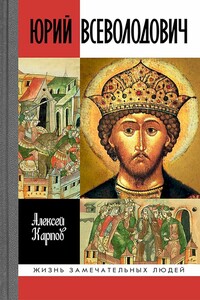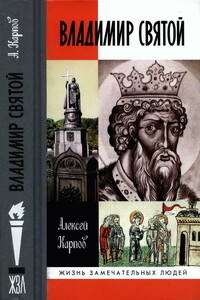Ярослав Мудрый | страница 23
Долгое время археологи считали возможным говорить о своеобразном феномене «переноса» древнерусских городов12. Так, в Рюриковом городище видели непосредственный предшественник Новгорода, в Гнездово - первоначальный Смоленск, в Сарском - древний Ростов. Может быть, это и верно - но лишь отчасти и лишь применительно к некоторым городам. При этом «перенос» города, разумеется, нельзя понимать буквально, поскольку многие из названных центров (в том числе Сарское и Ростов) в течение более или менее длительного времени существовали параллельно друг другу. Но могли «переноситься» - и, вероятно, переносились - определенные функции того или иного города как центра округи, а в отдельных - и его название. В истории древней Руси подобные случаи известны и по показаниям письменных источников. Так, в конце Х века, при князе Владимире Святом, происходит своеобразное «переоснование» Переяславля на реке Трубеж, а в середине XII века князь Юрий Долгорукий переносит на новое место и северный Переяславль (Переяславль-Залесский) на Кещине озере. Отожествление первоначального Ростова с городищем на Саре - пожалуй, единственная возможность согласовать противоречия между данными археологических исследований и «Повестью временных лет», определенно знающей Ростов как главный город Мерянской земли в IX - начале Х века.
Бурный рост Ростова, продолжавшийся в течение последующих столетий, начинается именно со времени княжения в этом городе князя Ярослава Владимировича. Но почему Ярослав (или, точнее, его отец) избрал для пребывания князя это вполне заурядное и ничем не примечательное поселение, а не гораздо более развитое во всех отношениях городище на Саре? Теория «перенесения городов» не объясняет сути явления, не дает ответ на этот вопрос, равно как и на другой: почему процесс «перенесения городов» - если он действительно имел место - наиболее активно протека именно в конце Х - начале XI века? Очевидно, что этот процесс отражает какие-то существенные, глубинные изменения, происходившие в Киевском государстве в это время.
Реформа государственного управления, выразившаяся, в частности, в распределении городов между сыновьями Владимира, сыграла исключительно важную роль в истории Киевского государства. Историки определяют время правления Владимира как время становления государства в привычном для нас смысле - с определенными внешними границами, определенными органами управления, более или менее четкой системой подчинения областей верховной княжеской власти. Прежняя самостоятельность отдельных племен, при которой их зависимость от Киева ограничивалась лишь признанием власти киевского князя да выплатой оговоренной дани, отходила в прошлое. Коренным образом менялась и сама система сбора дани, являвшаяся основой государственной власти прежних киевских правителей. Как известно, при бабке Владимира княгине Ольге постоянным местом сбора дани становятся так называемые «погосты» - центры княжеского влияния в отдельных, как правило, удаленных от Киева областях. Эти «погосты» еще не были городами в полном смысле этого слова; они представляли собой укрепленные пункты, места пребывания представителей княжеской администрации и княжеской дружины. В основном такие «погосты» возникали по соседству со старыми племенными центрами. По-видимому, их жители обладали правом экстерриториальности, а значит, «погосты» противостояли «земле», в которой находились, и в большинстве своем являлись чужеродными, искусственными образованиями, не имевшими достаточного запаса устойчивости и жизнеспособности13. Нечто подобное имело место и в других областях Европы, например, в Скандинавии, где рядом друг с другом также сосуществовали племенные центры («туны») и королевские усадьбы-станы («хусабю»), и таким образом каждый административно-территориальный округ имел два центра, «очевидно, представлявших две различные системы власти: формирующуюся королевскую с зачатками государственного управления… и местную, восходящую к племенному строю»14.