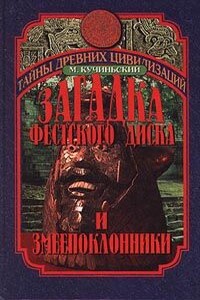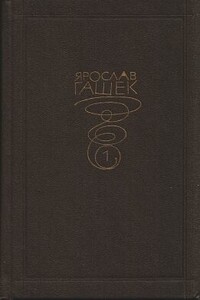Рабы ГБ. XX век. Религия предательства | страница 18
К этому времени я по уши залез в бесчисленные истории стукачей и сексотов и иногда, читая или слушая очередную исповедь, ловил себя на том, что тот первый — нервный и напряженный — интерес к ним уже пропал. Я с ужасом стал подмечать в себе участливое равнодушие врача, с мимолетным вниманием отмечающего даже при встрече с человеком, здоровым полностью, признаки болезни, тихо изъедающей его.
Да, так было до того дня, когда я познакомился с НИМ. Уже с НИМ — моим.
Познакомился — и снова стало близко, горячо… Для меня эта история началась поздним весенним вечером, да нет, уже за полночь (помню, была какая-то гнусная слякотная погода за окном), с телефонного звонка.
— Алло… Извините, что звоню домой… Но это важно… Мы не могли бы сейчас увидеться? — услышал я в трубке молодой голос. — Сегодня, сейчас…
Я привык к неожиданным телефонным звонкам и не боюсь ночных перемещений по городу: бросок на улицу, такси, дорога, ночная Москва, чужой свет за окнами, выхваченные фарами лица прохожих — все это давало ощущение жизни даже тогда, когда казалось, что жизнь начинает затухать.
Но тут я посмотрел за окно, на хлеставшие в стекло крупные капли дождя, на черное небо — нет, только не сегодня, только не сейчас.
Я почувствовал, что человек, набравший мой номер, разочарован отказом.
— Ну, давайте утром… До утра недалеко… И тогда он произнес слова, значение которых я в тот момент не понял:
— У меня остался всего лишь один день… — И после паузы:
— Тогда обязательно завтра утром, потому что завтрашний день у меня на самом деле последний.
И какая-то новая интонация послышалась мне: уже не растерянная, а твердая, уже не просящая, а требующая. И я, помню, подумал: "О, брат… Да у тебя стряслось что-то серьезное…"
Потом я долго не мог уснуть, уже сожалея о своем отказе. И даже стал с нетерпением ждать утра, не подозревая, какой сюрприз оно мне принесет…
Он появился в редакции чуть позже десяти, едва я сам успел переступить порог своей комнаты. Как я и предполагал, он действительно был молод — лет двадцать пять, не больше. Интеллигентное лицо медленно взрослеющего юноши из хорошей семьи.
— Я звонил вам вчера ночью…
— Привет… Ну? Садись…
— Спасибо… — И обернувшись: — Можно закрыть дверь?
— Да закрывай… Что стряслось?
Он закрыл дверь, замер, так и не сев в кресло, судорожно глотнул и произнес, глядя поверх меня, за окно, где темнели развалины соседнего с редакцией здания:
— Я хочу, чтобы вы простили меня… Пять лет назад я написал на вас донос в КГБ.