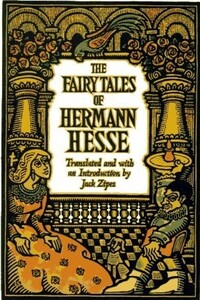В регистратуре | страница 45
Сейчас его сиятельство перевернул подставку и быстрыми шагами заходил передо мной, скрестив за спиной руки.
— Столько раз уже решался выйти в отставку… «Скромность и терпение». Гм, гм… Конечно, за все, что есть и что будет, они должны быть благодарны мне, да. Но честь! Глава! Как это я не буду главой «Скромности и терпения»? Гм… Знаю, ведь знаю же я, что за все мои благодеяния я никогда ничего не получу, да я и не рассчитываю на благодарность, но… но, Ванча, — обратился он ко мне, а я сидел, как истукан, не сводя глаз со своей копии великой речи, хотя всю ее от слова и до слова знал уже наизусть, лишь бы не прыснуть от смеха. — Но, Ванча, какие длинные фразы в этой ужасной речи, произносить их все равно что корову из реки тянуть за хвост! И мы, старые хорваты, учились и в скупщинах выступали, но не так же… Слова выскальзывают из памяти, будто слизняк из пальцев.
— Это так называемые цицероновские периоды, — отвечал я.
— Да откуда ты знаешь, Ванча?
— Изучаю. Я же в классической гимназии, ваше сиятельство! Мы должны сами такие речи и составлять, и уметь произносить на память.
— Гм, гм… Классик… Цицерон… периоды… все это когда-то было. Что-то вертится, вертится еще и по сию пору у меня в голове. Крутится, да!.. Классик. Ну, и помнишь ли ты какую-нибудь свою речь, Ванча?
— Помню. Я и эту уже знаю.
— Эту? Какую эту? — разинул рот Меценат.
— Ту, что вы сейчас заучиваете.
— Ну, наглец, да как ты решился? Как ты решился, грязный мошенник! Вот благодарность за мои благодеяния! Это моя тайна, а ты решился, ты, сиволапый тупица?
— Я ее не учил, она сама собой врезалась в память, когда я ее читал, а вы учили. И когда переписывал.
— Врезалась… врезалась в память? — Старый благодетель приложил ко лбу палец. — Я этого не понимаю — как врезалась в память? Тысяча чертей, как она тебе врезалась в память? Я тут мучаюсь, бьюсь, отдуваюсь, а она все равно не лезет в голову. Надо же, врезалась в память. А ну-ка попробуй ты, Ванча, раз врезалась.
И я начал говорить, прямо загрохотал. Меценат разинул рот, и глаза его скосились вправо, будто ему шею вилами прищемили. Когда я перешел к месту, где поэт сам себе курит густой фимиам: «Великая благодарность, честь и слава нашему первому народному лирическому поэту Рудимиру Бомбардировичу-Шайковскому (литературный псевдоним поэта и составителя речей, конечно же, был куда благозвучнее Дармоеда), который своим голубиным сердцем вознес над египетскими пирамидами нашу целомудренную литературу, который своим огромным талантом утешил сирых, напоил голодных, накормил жаждущих, который своим божественным гением защитил бедных и убогих животных: воробьев и синиц, замерзающих в лютую стужу, лошадей и ослов, подыхающих от жестокости наших батраков и кучеров…»