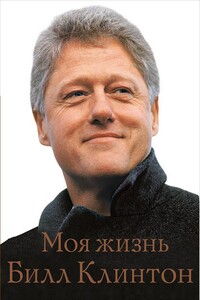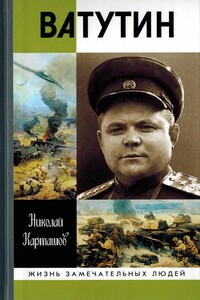Платон. Его гештальт | страница 26
Пойми также, что вторым разделом умопостигаемого я называю то, что сам логос схватывает с помощью диалектики; гипотезы свои он не выдает за некие начала, напротив, они для него только гипотезы как таковые, то есть попытки и побуждения двигаться к истоку целого, который уже не предположителен. Достигнув его и придерживаясь всего, что связано с этим истоком, он затем снова нисходит к заключению, не пользуясь при этом ничем чувственно воспринимаемым, но лишь самими идеями, через них и ради них самих, и вновь приходит к идеям.
Идеи, следовательно, не просто стремятся к сердцевине, чтобы в конце концов закрепиться в едином центре первоистока; скорее их течение в вечном кругу вновь возвращает их к многообразию идей, составляющих все мироздание и всегда связанных с единством порождающей сердцевины.
Я понимаю, хотя и не в достаточной степени, ответил он; мне кажется, ты говоришь о сложных вещах. По-видимому, ты хочешь установить, что сущее и все умопостигаемое при помощи диалектики можно созерцать яснее, чем то, что рассматривается так называемыми науками, где гипотезы выступают как начала, которые созерцающие могут рассматривать при помощи рассудка, а не посредством чувственных восприятий. Но поскольку в своем исследовании они не поднимаются к истоку, а только движутся вперед, отталкиваясь от гипотез, постольку, по-твоему, у них нет понимания того, что можно было бы постичь исходя из истока.
Естественные науки, составляющие гордость последнего столетия, не только принижаются здесь в своем ранге, но и оказываются внутренне поколеблены, поскольку их точность представляется привязанной к вещам, а сами они — неспособными выйти за свои пределы и подняться к истоку человеческого; однако математическая идея даже в приземленном своем виде, у неоплатоников, где она трактуется как связующая середина между вечно текучей жизнью и идеей, сдерживающей ее поток и формирующей в нем гештальты, рассеивается перед этим ясным определением, согласно которому математике со всеми ее циркулями никогда не очертить живого круга. Тут нет противоречия с тем, что в следующей, седьмой книге «Государства» мусическое и гимнастическое воспитание стража признается недостаточным в такой паре и дополняется математикой, и это «приуготовление к бытию» требуется как важное для очищения взгляда, чтобы глаз мог смотреть на солнце agathon, как средство защититься от ослепления, как «вступление к напеву».[77] Ибо и в таком виде математика остается всего лишь знаком преддверия, поскольку она лишь «понуждает душу повернуться к тому месту, где заключено величайшее блаженство для всего сущего», но не может предложить ничего большего, чем отказ от материального и призыв быть внимательнее. Она только «грезит» о бытии, потому что принятие ни к чему не обязывающих аксиом не позволяет нам «подняться наверх», и «разве может то, что было допущено таким образом, когда-либо превратиться в познание!» Акцент на пропедевтической ценности математики и математической астрономии вводит нас здесь в заблуждение и вызван лишь насущной потребностью: в условиях ослабления прежней сопряженности инстинкта и закона найти наиболее сильное оружие против софистов, способствовавших прорыву инстинктов; и такое оружие видится в науке, которая, будучи не подвластна никакому произволу, устанавливает не знающие исключения законы и ограничивает ими всевозможные случайности. Математика только потому уже в «Меноне» провозглашается искательницей нового пути, что в ней наиболее явственно выражается неукоснительный закон гипотезы. Нужно, однако, различать между этой временной нуждой и наиподлинным взлетом платоновской мысли, между наставническим поучением молодому поколению и имеющими предельную силу усмотрениями мастера; и потому тот, кто хочет охватить единым взглядом умственные построения Платона, должен постоянно держаться вышеприведенных, тесно следующих друг за другом положений из конца шестой книги, которые нарочно затруднены и затемнены явным нежеланием господина дать резюмирующий и облегчающий понимание обзор всех своих духовных владений.