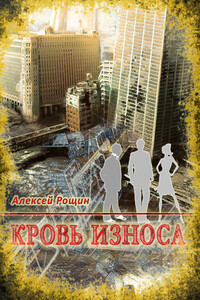Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее | страница 96
Невротизируй и управляй
Российская власть, вероятно, на инстинктивном уровне почувствовала угрозу. Речь ведь идет об одном из базовых способов психологического контроля над населением на >1/>6 части суши. Поэтому и началось активное «противодействие Западу», попытки повторного табуирования гомосексуальной темы.
Общая канва действий в инфополе понятна: гомосексуализм – это так ужасно, что о нем лучше вообще ничего не знать и не говорить. Гомосексуалистов – ни в спорте, ни на сцене – не существует (то есть все, кто себя таким образом проявляют, тут же проваливаются в преисподнюю без следа, превращаются в «социальный ноль»).
Властям оно, конечно, выгодно, но, прошу прощения за тавтологию, культивирование блатной культуры ведет к дополнительной невротизации и без того крайне нервного населения. Секс в России оказывается чрезвычайно перегружен символическими смыслами: в нем мало любви, мало даже гедонизма, но очень много отношений власти. Простой русский обыватель, в котором с детства живет концепция «опущения», в итоге начинает воспринимать любой секс, даже гетеросексуальный, как тот же самый способ наказания и понижения в социальном ранге.
В итоге интернет полон, к примеру, жалобами женщин на то, что вроде бы влюбленные в них мужчины… оказываются неспособными к половой близости с ними. И дело не в импотенции, а, как ни странно, в страстной и сильной любви: влюбленные не могут заставить себя «опустить» любимую.
Не стоит думать, что яростная гомофобия значительной части нашего населения показывает, будто бы среди нас так уж много «латентных гомосексуалистов». Вовсе нет. Эти люди просто глубоко невротизированы и испытывают страх. Страх, который нынешние власти посчитали нужным еще усилить.
Провинция и ее СМИсми
Поговорим о провинциальной журналистике. На сегодня в подавляющем большинстве российских городов и весей выходят какие-то газеты, и даже не одна на город, а две или три. Местная пресса существует! Не сказать, что она при этом процветает, равно как давно уже нельзя назвать престижной профессию журналиста в русской провинции. Увы, журналистика нынче не приносит своим региональным адептам ни славы, ни влияния, ни тем более материальных благ.
Как следствие, в провинциальной журналистике мы наблюдаем тот же процесс, что в образовании и здравоохранении: профессия приобретает все более ярко выраженную половую окраску – а именно становится «женской». Увы, как бы неполиткорректно это ни звучало, но для России это верная примета: чем больше в какой-то профессии женщин – тем меньше в этой же профессии… нет, не мужчин; денег! Обратный закон срабатывает не всегда, но тоже почти железно.