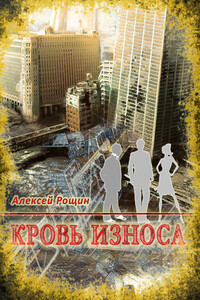Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее | страница 13
Садист в советском обществе от своей извращенной эмпатийной способности не страдал, а наоборот – мог или наслаждаться молча, или же присоединяться к травле (что поощрялось властью) и таким образом добавлять к своему удовольствию «новые градусы».
Человек с обычной эмпатией, переживающий страдания другого как свой личный дискомфорт, находился (и находится) в наших условиях в состоянии перманентной фрустрации – так как попытки «исправить ситуацию» «не приняты» или же прямо запрещены. В то же время садист находится полностью в «своей тарелке».
«Совковому» миру, как и любому другому, все же нужны были свои творцы, свои художники. Одновременно с этим никакое творчество невозможно без переживания сильных и ярких эмоций. Здесь у «совка» было перманентное затруднение, ведь один из самых сильных классов «социальных эмоций» – эмпатия – был в «совке» под запретом.
Однако выход был найден. Удивительно ли, что значительная часть «советской культуры» создана мастерами с более или менее ярко выраженными садистическими наклонностями? Наиболее, впрочем, ярко сие проявилось уже в постперестроечную эпоху.
Воля к управлению
В стране уже вроде бы 20 лет демократия, свободные выборы, коммунистическая диктатура повержена. Но тем не менее жители страны не демонстрируют никакой особой приверженности идеям демократии – вплоть до того, что само слово «демократ» является для большинства россиян ругательным и почему-то прочно ассоциируется со словом «воровство». В чем дело? Разве жители постсоветского государства не хотят сами управлять собственной жизнью?
Не хотят. И это весьма интересный результат того эксперимента, который мы здесь разбираем.
Тело, в котором мы родились
Приблизительно год назад участвовал я – как социолог – в одном любопытном исследовании российского Министерства образования. Оно касалось детей с ограниченными возможностями здоровья.
Я делал интервью и проводил групповые беседы с родителями таких детей, посещал специализированные школы, общался с преподавателями, которые пытаются приспособить их к жизни в суровом мире относительно здоровых россиян. В основном исследование касалось детей с детским церебральным параличом. У них всегда в той или иной степени нарушена координация движений, они с трудом передвигаются (чаще всего при помощи коляски), с трудом говорят, для многих огромная проблема – донести ложку до рта, на обучение этому уходят годы.
Как-то мы, уже после «глубинного интервью», сидели и пили чай с очень опытной специалисткой именно по обучению детей с ДЦП, посвятившей этому без малого 30 лет. Ее ученики даже в вузы поступают и успешно их оканчивают! В разговоре я еще раз выразил свое неподдельное потрясение и сострадание к этим детишкам: как же им тяжело живется, сколько трудов им приходится прикладывать для того, чтобы выполнить простейшие, на наш взгляд, действия!