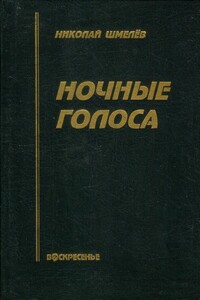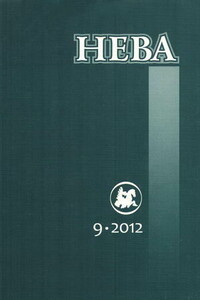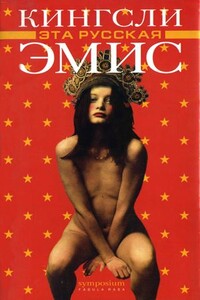Curriculum vitae | страница 7
Это сейчас я улыбаюсь тому вопросу, который лет эдак в тринадцать-четырнадцать я как-то задал своему отцу:
- Слушай, а как ты думаешь, каждый человек считает себя умнее всех на свете? Или нет?
Отец тогда лишь пожал плечами: что толку тратить силы и слова на этого неуклюжего ершистого подростка, пусть и собственного сына, который все равно ведь ничего не поймет. Но потом, помолчав немного, видимо, решил: хотя бы для очистки совести ответить что-то нужно.
- Нет, не каждый. Далеко не каждый... А под старость, думаю, так не считает, наверное, никто.
Не понял я тогда его или не поверил - сейчас уже не помню. Но долго еще потом, годы целые и десятилетия, в глубине души я был все же уверен, что на самом-то деле все так оно и есть, как я предполагал. И что я каким-то верхним чутьем отгадал чуть не главную тайну про людей, которую они почему-то всегда скрывают если не от себя, то по крайней мере от всех других.
А вот когда пришло нечто прямо противоположное - хоть убей, не заметил...
Прометей, вызов богам, величие человеческого духа - Господи, какая же все это чепуха! И ума у тебя на самом деле не больше, чем у других. И не знаешь ты в действительности ничего, и даже то, что вроде бы когда-то знал - и это все давно забыл. И силенок у тебя, оказывается, всего-то кот наплакал. Да и вообще, и тебе самому, и жизни твоей цена лишь грош в базарный день. Не больше! И не обольщайся: когда тебя не станет, никто в мире, будь уверен, всерьез даже и не заметит твоего исчезновения. У всех на другой же день окажется масса куда более срочных дел, чем помнить о тебе.
Смирение, дорогие мои! Смирение. Это, похоже, и есть она, мудрость. И это и есть "путь всякой плоти". Независимо от того, что человек сам когда-то думал или все еще думает о себе.
Но и гордыня, и смирение - они одинаково тяжелы. Может быть, смирение даже тяжелее, ибо в конце его - только конец. И больше, боюсь, ничего.
Болгарский след
Нет, об этом не написать я не мог! Все-таки для меня это открытие. Причем такое открытие, которого я ждал чуть не половину своей жизни. И даже, признаюсь, с некоторых пор и вовсе бросил уже было надеяться, что оно, это открытие, когда-нибудь произойдет.
А дело все в том, что я, международник по профессии, с 1973 по 1986 годы, тринадцать с лишним лет, был, как тогда говорилось, глухо "невыездной", т.е., называя вещи своими именами, "профнепригодный". И никак не мог понять почему? Что я натворил, что я такого сделал, чтобы советская власть так уж насмерть осерчала на меня? Ну, не любил я ее, это было, наверное, не только мне ясно. Да подумаешь - не любил! Да она сама себя не любила, чего уж тут говорить про других. Не шумел, кулаками не махал, правила игры знал, на рожон не лез - так, казалось бы, чего ж вам еще? Нет, запечатали так, что даже в какую-нибудь там Болгарию - и то не смей, и то не моги ни ногой.