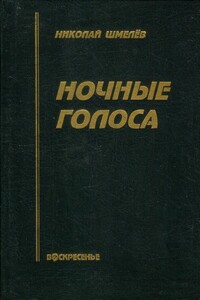Curriculum vitae | страница 32
А самая большая просьба у меня к судьбе - если, конечно, они, эти просьбы, принимаются - теперь, пожалуй, одна: умереть так, чтобы не разбудить. Умереть ночью, разом, в полном молчании, чтобы ее, кто когда-то так доверился мне, не разбудить. Пусть спит.
Кто, где, когда
Старики мои лежат на московском Даниловском кладбище. Уютном, добротном, зеленом кладбище, издавна почитаемом в Москве: хоронили там раньше преимущественно духовное сословие, купцов всех трех гильдий, мещан, мастеровых и разный другой домовитый, обстоятельный замоскворецкий люд. Потом, конечно, пошла самая разношерстная публика, преимущественно московская интеллигенция, но и простого народа тоже лежит там достаточно. Причем, что характерно, без всякого разбору: русские, малороссы, армяне, евреи, даже, судя по именам, и татары попадаются - всем здесь место нашлось, никто не мешает никому.
А церковка кладбищенская просто замечательная! Кажется, начала ХIХ века: строгая классика с белым куполом и одиноким золотым крестом наверху - что-то такое, что пошло и почти на век утвердилось на Руси в екатерининско-александровские времена, особенно в помещичьих усадьбах и по губернским городам. А рядом через забор от кладбища - Алексеевская больница для душевнобольных ("Канатчикова дача"): тоже, что ни говори, место "злачно и покойно", где измученные души человеческие хоть и временно, ненадолго, но тоже обретают какой-никакой, а покой.
"И вожделенное отечество подай мне, Господи, вновь сотворяя меня жителем рая..." Почему-то именно эти слова из заупокойной молитвы, какой православная церковь провожает в последний путь усопших, каждый раз вновь и вновь звучат у меня в ушах в те нечастые (ох, нечастые!) дни, когда я прихожу сюда проведать моих стариков и стою у поржавевшей уже во многих местах решетки и большого черного камня, на котором выбиты их имена. В них, в этих словах, все: и печаль, и усталость от земных тревог и суеты, и надежда на то, что все у Бога устроено мудро и милосердно, и все для человека будет в конце концов хорошо.
А для меня в этих словах еще слышится некое обещание скорого прощения мне, лично мне - нерадивому, невнимательному сыну, который столько недослушал, недопонял, столько не ответил вовремя своим старикам, не навестил их лишний раз, не посидел с ними лишний час, не выспросил, не выслушал от них чего-то такого самого важного, самого последнего, что накопилось у них за жизнь и что, может быть, и было самой ее сутью. А уж про резкие слова, что иногда срывались у тебя с языка в ответ на их упреки или недоумения, и говорить нечего...