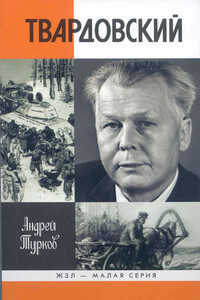Что было на веку... Странички воспоминаний | страница 41
Подвальчик, бульварик
И маленький Гарик,
Что колет для Гоги орех...
Давно это было,
А было — так сплыло,
А сплыло — так значит, не грех!
Гарик густо краснел и спешил ретироваться...
Десятилетия спустя он встретит обеих в Доме литераторов и кинется обнимать их, пораженных его видом, шепелявя беззубым ртом: «Девчонки! Девчонки!»
Но до этого сколько всего будет!.. Вероятно, Игорь, любивший Ахматову и многие ее стихи знавший наизусть, мучительно пытался понять и принять ждановскую «анафему» ей. Похожие операции проделывали тогда над собой многие, но все же не торопились облекать это в стихи вроде сочиненных Кобзевым:
Ваш домик с пачками любовных писем,
С гаданьями о собственной судьбе
От планов пятилетки независим.
Живите сами по себе!
Коготок увяз — всей птичке пропасть!.. Первым что-то неладноее почуял проницательный Левин, почти всегда говоривший с Игорем ироническим, поддразнивающим тоном. Он как в воду глядел; Кобзев поплыл по тогдашнему «течению», оказался «на коне» в космополитическую кампанию, пользовался благосклонностью в ЦК комсомола и в скором будущем как вполне благонадежный был послан в заграничную поездку. Доверие оправдал, пополнив массив тогдашних «разоблачительных» о «гнилом» Западе стихов: хожу, дескать, по этому Лондону, и ничего мне тут не мило, а душа — в Москве, где у сына зубки режутся.
«Резались зубки» и у самого поэта: тогда же, в начале 50-х, он приносил мне в «Огонек» проработочную статью о поэзии Александра Межирова под характерным язвительным названием «Цветочки на знаменах».
Большой карьеры Игорю почему-то все же сделать не удалось. В конце 60-х годов он круто повернул руль в крепнущем крикливопатриотическом направлении. В 1971 году вышла книга его «соответствующих» стихов, и я не выдержал, написал рецензию, которую последовательно «забоялись» поместить «Липтазета» и «Литературная Россия». Отважилась лишь «Комсомолка». В рецензии с горечью говорилось о «становящейся уже «модной» у некоторых поэтов фигуре «лирического героя», назойливо пристающего ко всем с вопросом, «уважают ли» они родной пейзаж, и с какими-то туманными и, в сущности, «не гигиеничными» намеками, что у всех, кроме него самого и его друзей, не хватает любви к родине и ее людям».
А все-таки ныне, на склоне лет, больше вспоминается мне не озлобленный и уронивший свой талант человек, а зеленый юнец, читавший мне в арбатских переулках стихи о друге, чья внезапная смерть обострила у поэта восприятие жизни и все стало томительно прекрасным, как будто накануне собственного прощания с миром. Увы, в памяти остались лишь самые-самые осколки: