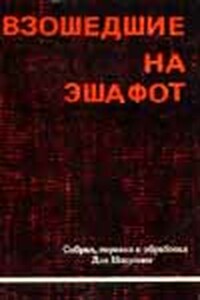Рыцарь Дикого поля. Князь Д. И. Вишневецкий | страница 84
Исход князя Вишневецкого из Черкасс, Канева и Хотрицы на службу русскому царю после того, как в своей поддержке ему отказал Сигизмунд II Август, еще раз доказывает наш тезис о том, что он за все время своей многолетней службы польско-литовской короне никогда не был самостоятельной военно-политической фигурой, всегда находился в полной материальной зависимости от своего сюзерена, а днепровское казачество, служившее князю, не являлось тогда сколько-нибудь самодостаточной военно-служилой корпорацией Великого княжества Литовского, если вообще существовало в принципе как узаконенное социальное явление. В связи с этим следует вспомнить слова Сигизмунда II Августа к литовскому канцлеру пану Н.Х. Радзивиллу Черному, сказанные в связи с отъездом в 1553 году князя за покровительством турецкого султана, в которых он ставал на одну плоскость казаков и холопов. В том же духе польско-литовский монарх высказался в своем письме (листе) крымскому хану летом 1557 года: «…Вишневецкий тамъ долго бытии не мелъ, а подданным своим справедливости стало бы ся зъ нимъ, а сторожи съ того замочку для шкоды межи панствъ не напереказе было бы твоимъ людемъ, брата нашего, але и овшемъ пожитку и помочи»[195]. Как мы видим, король Польский и великий князь Литовский прямо именует гарнизон Хортицкого замка «подданными» князя Вишневецкого, т. е. феодально зависимым населением (фактически, холопами), и вполне определенно говорит, что сам князь без поддержки монарха был не способен самостоятельно осуществлять сколько-нибудь серьезные административные и военные действия, что также вполне соответствовало действительности (достаточно вспомнить провал с ремонтом Черкасского замка в 1550–1552 гг.).
Поэтому не удивительно, что князь Д.И. Вишневецкий, временно лишившись поддержки со стороны польско-литовской короны, сначала не побрезговал принять в 1553 году «подарки» от представителей турецкого султана и непосредственно от крымского хана, в 1556 году — материальную помощь от московских служилых людей М.И. Ржевского, за которую расплатился поставкой 300 казаков-наемников. Когда же стала реальной перспектива отказа от сюзеренитета со стороны Сигизмунда II Августа в отношении князя в угоду геополитическим интересам польско-литовского государства, то он, не задумываясь, сменил монарха, дабы сохранить для себя источники денежного содержания и материального снабжения. Если бы он этого не сделал, перспектив лично для него не оставалось никаких: как только у него «корму не стало», казаки оставили своего предводителя в поисках более сытой и безопасной доли.