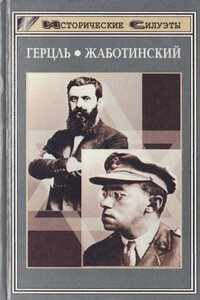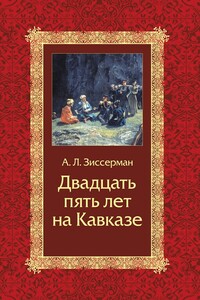Рыцарь Дикого поля. Князь Д. И. Вишневецкий | страница 51
Как видно из текста этой претензии крымского хана к польско-литовскому королю, черкасские казаки не выделяли и не обособляли себя от общерусского национального мейнстрима того времени, считали себя неотъемлемой частью православной ойкумены и рассматривали свою службу Великому княжеству Литовскому или Московскому царству не иначе как исполнение долга перед христианским миром (естественно, и как средство своего существования). Именно поэтому мы видим документальные свидетельства более чем союзнических, можно сказать — дружественных взаимоотношений между путивльскими (формально — московскими) и черкасскими (формально — литовскими) казаками. Фактически, мы определенно можем говорить о том, что казачество как сословный (корпоративный) феномен не был присущ только литовцам и полякам. Это было всеобщее социальное явление, характерное и типичное для окраинных областей всех государств, примыкающих к просторам Дикого поля, — Литвы, Московии, Крыма и Блистательной Порты (правда, в последней военно-сословная корпорация, сходная с казаками — легкие кавалерийские войска, располагавшиеся на границах Оттоманской империи и предназначавшиеся для наступательных операций против ее соседей, называлась «акынджи»).
Предшественником князей Вишневецких на должности старосты Черкасского и Каневского был пан Евстафий (или Остап) Дашкович (?–1535), который, по сути, сумел привлечь под свое командование все днепровское казачество, поставив его на службу себе лично, а посредством этого — Польско-Литовскому государству. Его жизнь и судьба интересны нам тем, что с них во многом буквально списан жизненный путь князя Дмитрия Вишневецкого, который совершил практически те же поступки, что и его предшественник. Евстафий Дашкович воевал сперва против турок и побывал в плену у татар (в 1523 году), служил несколько лет Великому князью Московскому Василию III, затем снова возвратился в Литву к Сигизмунду и получил в управление города Черкассы и Канев на правом берегу Днепра ниже Киева[140].
Как мы видим, до люстрации Волынского княжества 1545 года и превращения его в воеводство Великого княжества Литовского местные порубежные феодалы особо не отягощали себя вопросом, кому служить — Кракову, Вильно или Москве? Переход от одного сюзерена к другому в интересах борьбы с основным врагом — крымскими татарами и, возможно, турками и зависимыми от последних валахами (молдаванами —