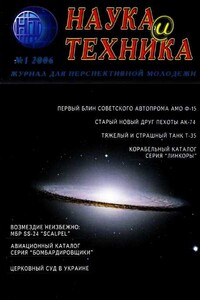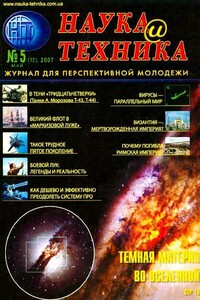Наука и техника, 2006 № 05 (5) | страница 45
Все это так и было. Но и приближение иностранцев, и преимущества, оказываемые новому Измайловскому полку, сформированному из однодворцев юга и иностранных офицеров, вполне объяснимо сложностью положения Анны, которая после оглушительных событий начала 1730 г. не могла доверять «природному» российскому дворянству, подписывавшему проекты об ограничении ее власти. Принцип личной преданности при подборе своей «команды» во все времена оставался важнейшим: было бы странным, если бы Анна поставила на первые места в государстве своих врагов — вчерашних верховников.
Нужно также учитывать, что не каждый иностранец пользовался доверием при дворе и что многие русские были сподвижниками Бирона — Павел Ягужинский, Артемий Волынский, Андрей Ушаков, Алексей Черкасский, Гавриил Головкин.
Следующий стереотип сводится к тому, что при дворе существовала некая «немецкая партия», во главе которой стоял Бирон. Однако в те времена никакой германской общности не существовало: вестфалец Остерман, ольденбуржец Миних, лифляндцы Левенвольде и другие не были связаны как немцы. Их, как и русских приближенных Анны, объединяло одно — ожесточенная борьба за власть, привилегии, пожалования, т. е. то, что всегда было главным в жизни всех придворных. Все «глотатели счастья», вне зависимости от национальности, были схожи. Вот как характеризует одного из типичных придворных Анны — графа К. Г. Левенвольде испанский дипломат герцог де Лириа: «Он не пренебрегал никакими средствами для достижения своей цели и ни перед чем не останавливался в преследовании личных выгод, в жертву которым готов был принести лучшего друга и благодетеля. Задачей его жизни был личный интерес. Лживый и криводушный, он был чрезвычайно честолюбив и тщеславен, не имел религии и едва ли верил в Бога».
То же можно сказать и об Остермане, Бироне или Ушакове и многих других государственных деятелях.
Не менее популярен в литературе стереотип об упадке торговли, промышленности, земледелия при господстве немецкой клики. Исследования по конкретным отраслям хозяйства развеивают этот стереотип. Как показал крупный знаток торговли в России XVIII в. Н. Н. Репин, с 1725 по 1740 г. произошел резкий скачок товарооборота через Петербургский и Архангельский торговые порты, а сборы таможенных пошлин с 1729 по 1740 г. возросли с 228 тыс. до 300 тыс. рублей. Вывоз железа за то же время возрос более чем в пять раз. Вывоз хлеба увеличился в 22 раза, соответственно росли и доходы русских купцов и предпринимателей.