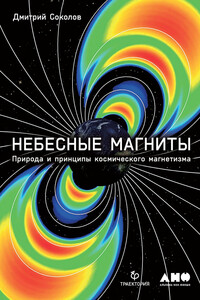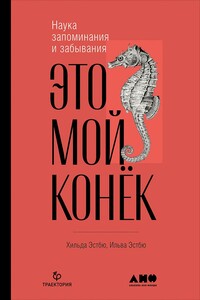Осознание времени. Прошлое и будущее Земли глазами геолога | страница 68
Находит наша жизнь вдали от света
В деревьях — речь, в ручье текучем — книгу,
И проповедь — в камнях, и всюду — благо.
Уильям Шекспир. Как вам это понравится>{8}
Холодная встреча
На Шпицбергене многие элементы ландшафта не имели официальных названий до конца XIX в., поэтому в местности, где я проводила полевые работы, учась в магистратуре, некоторые из них были названы в честь геологов той эпохи. Высокий пик носил имя Йёнса Якоба Берцелиуса, «отца шведской химии» и пионера минералогии. Относительно защищенная от ветров долина с полудюжиной живописных ледников была окрещена Чемберлиндален в честь Т. Чемберлина, геолога из Висконсина, который первым составил карты ледниковых отложений в верховьях Великих озер. Выступающий в Северный Ледовитый океан мыс, обдуваемый всеми ветрами, назывался Капп-Лайель — как несложно догадаться, в честь великого апологета униформизма.
То, чем я занималась на Шпицбергене в 1980-х гг., мало чем отличалось от работы моих коллег в XIX в. — я составляла геологическую карту района: намечала геологические границы безымянных литологических подразделений, отбирала образцы для анализов и предварительно интерпретировала данные для реконструкции истории геологического развития региона. Подобного рода рекогносцировочные геологические работы в большинстве других частей мира были завершены еще несколько десятилетий назад.
Базовые карты, на которые мы наносили результаты наших геологических наблюдений, были увеличенными копиями прекрасных, нарисованных от руки карт 1920-х и 1930-х гг. Меня восхищал и использованный картографами изящный шрифт с легким наклоном, и аккуратные надписи, изогнутые в соответствии с дугами ледников и береговых линий. Но сечение горизонталей (промежуток между изогипсами — линиями одинаковых высот) на этих картах было разрежено до 50 м — очень крупное сито, которое не могло уловить много ценных топографических деталей. Поэтому в поле мы использовали еще и аэрофотоснимки, сделанные Норвежским полярным институтом в 1930-е и 1950-е гг. (с перерывом на ужасные военные годы, когда Норвегия боролась за выживание и даже на отдаленном Шпицбергене среди фьордов скрывались зловещие германские субмарины). Днем мы соотносили эти снимки с местностью, делали на них отметки, а белыми ночами, при блеклом свете полуночного солнца, переносили эту информацию на карты. Такие аэрофотоснимки (сегодня в основном уступившие место спутниковым изображениям) представляли собой стереоскопическую пару — два перекрывающихся снимка местности, которые, если смотреть на них через специальный стереоскоп, позволяли увидеть объемное изображение топографических особенностей рельефа. (Некоторые опытные геологи могут достичь того же эффекта без стереоскопических очков, просто расслабив и слегка сведя глаза, но я так и не научилась этому трюку.) Вскоре мы поняли, что нам нужно быть осторожными с определением местоположения объектов относительно краев ледников на аэрофотоснимках, поскольку их границы заметно сдвинулись вверх по долине по сравнению со старыми фотографиями. Это было первым знаком того, что на этот полярный архипелаг, казалось навсегда застывший в ледяном оцепенении, возвращается время.